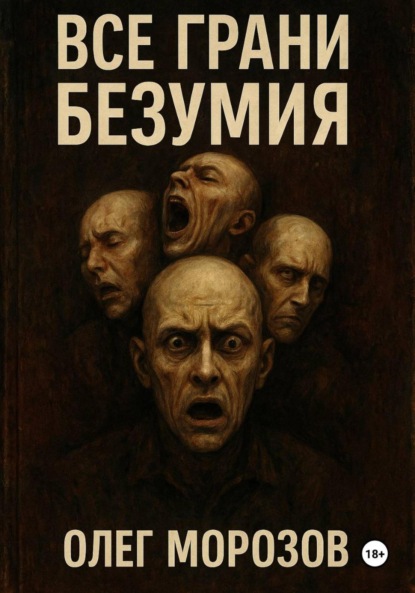
Полная версия:
Все грани безумия
Квартира встретила меня враждебной тишиной. Я не стала раздеваться. Прошла прямо в его комнату. Дверь скрипнула. Я не заходила сюда с тех пор, как поняла, что это склеп. Но теперь у меня была цель.
Я открыла дверцу старого шифоньера. Запах. Тот самый. Смесь его одеколона, и чего-то неуловимо родного. Запах жизни. Я вдохнула его полной грудью, как воздух перед погружением на глубину.
И увидела его. Пиджак.
Темно-серый, почти черный. Тот самый. С его выпускного. Я помню, как одергивала на нем воротник, как он отмахивался: «Мам, ну хватит, я не маленький». А я все равно поправляла.
Я сняла пиджак с вешалки. Он был тяжелее, чем я думала. Плотная, добротная ткань. Я прижалась к нему лицом. Он был холодный. Но я помнила его тепло. Вернувшись, я подошла к кресту. Мое сердце колотилось так сильно, что отдавало в висках. Это был самый важный ритуал. Важнее похорон, важнее поминок.
– Ну вот, сынок. Я пришла. Сейчас мы тебя оденем. А то совсем замерз, поди.
Я начала надевать пиджак на крест. Это было нелегко. Грубые, широкие перекладины не хотели влезать в рукава. Ткань цеплялась за занозы. Я пыхтела, боролась с этим упрямым деревом, и шептала, шептала без умолку.
– Ну давай, мой хороший, ручку сюда… вот так… не капризничай… Потерпи немножко, сейчас все будет…
Наконец, у меня получилось. Пиджак сел на крест. Нелепо. Гротескно. Рукава безвольно повисли по бокам, как будто обнимая пустоту. Но я этого не видела. Я видела другое.
Я видела его.
Он стоял передо мной. В своем пиджаке. Немного смущенный, как всегда.
Я подошла и, как тогда, возле школы, одернула лацканы. Расправила воротник. Смахнула несуществующую пылинку с плеча.
– Вот. Совсем другое дело. Какой же ты у меня красивый. Взрослый. Настоящий мужчина.
«Спасибо, мам. Так правда теплее».
Голос прозвучал так ясно, так близко, что я протянула руку, чтобы коснуться его щеки. Пальцы наткнулись на холодное, шершавое дерево. Но я не расстроилась. Это было неважно. Главное – ему было тепло. Я одела своего сына. Я выполнила свой материнский долг. Я села на скамейку, удовлетворенная, и уставилась на него. На крест в пиджаке. На своего мальчика.
Глава 11
Первым свидетелем моего священнодействия стал Михалыч. Он появился на своей тропе, когда уже начало смеркаться. Я видела, как он замер на полпути, как вкопанный. Его рот приоткрылся. Он смотрел на крест в пиджаке, и на его выдубленном лице отражалось суеверное, первобытное недоумение. Он не подошел. Он не сказал ни слова про «порядок». Он медленно, бочком, обошел нас по широкой дуге, словно боясь потревожить. Я видела, как он перекрестился, прежде чем скрыться за деревьями. Он понял. Он больше не был стражем правил. Он стал зрителем.
Вторым свидетелем была Аня.
Она пришла на следующий день. Не одна. С мужем, Колей. Тем самым, что сколотил скамейку. Видимо, одна уже боялась.
Я увидела их издалека. Они шли медленно, нерешительно. Аня что-то говорила Коле, жестикулировала. Он, большой, неуклюжий, только кивал и хмурился.
Они подошли и остановились. Как у края пропасти.
Их глаза были устремлены на пиджак. На то, как он треплется на ветру. В глазах Ани был ужас. Чистый, незамутненный ужас.
– Валя… – прошептала она. Это был даже не вопрос. Это был стон. – Что… что это?
– Это пиджак, – ответила я спокойно. Я была абсолютно умиротворена. Я не видела в своем поступке ничего странного. – Ночью холодно. Ему было холодно.
– Валя, это же… это же крест! – Голос ее сорвался. – Это символ! Нельзя так! Люди увидят… что они подумают?! Это безумие!
– Мне все равно, что подумают люди, – сказала я, глядя ей прямо в глаза. – Людей здесь нет. Здесь только я. И он. И ему теперь тепло.
Коля, ее муж, шагнул вперед.
– Валентина Петровна… Давайте мы это снимем. Нехорошо это. Не по-людски. Не по-божески.
Он протянул свою большую, мозолистую руку к пиджаку.
– Не трогай! – закричала я так пронзительно, что птицы с соседних деревьев сорвались и с карканьем взмыли в небо.
Коля отдернул руку, как от огня.
Я встала между ними и крестом. Я была маленькой, высохшей старухой, но в тот момент я, наверное, была страшна.
– Не смейте! Не подходите! Вы его разбудите! Он спит!
Аня закрыла лицо руками и зарыдала. Глухо, безнадежно. Коля обнял ее за плечи, прижал к себе. Он смотрел на меня поверх ее головы. И во взгляде его не было ни злости, ни осуждения. Только тяжелая, мужская жалость и полное бессилие.
– Пойдем, Анюта, – сказал он тихо. – Пойдем отсюда. Тут… тут мы ничего не сделаем.
Они уходили, сгорбившись. Аня плакала навзрыд, ее плечи сотрясались. Они были последним мостиком, последней ниточкой, связывавшей меня с их миром. И сейчас эта ниточка сгорела.
Я осталась одна. Победительница.
«Не плачь, мам. Все хорошо. Они просто не понимают».
– Да, мой родной. Они не понимают. Ну и пусть. Главное, что мы понимаем друг друга.
Я поправила воротник на его пиджаке и снова села на свое место.
Глава 12
Логика безумия – самая прямая и неумолимая логика на свете.
Если есть пиджак, чтобы не мерзнуть днем, то должно быть что-то, чтобы не мерзнуть ночью. Если есть одежда, должна быть и постель. Разве можно спать в одном пиджаке на голой, ледяной земле? Разве так матери укладывают своих детей?
Нет. Так нельзя.
На следующий день я снова совершила вылазку в квартиру-склеп. На этот раз я знала, что ищу. Моя миссия была еще более ясной и святой. Я готовила ему спальню.
Я вошла в его комнату. Прямиком к встроенному шкафу, где хранилось белье. Открыла дверцу и нашла его детское ватное одеяло. Стеганое, в синем пододеяльнике с выцветшими мишками. Оно было тяжелым, плотным. Я помню, как он, маленький, закутывался в него с головой, и я называла его «мой медвежонок в берлоге». Я прижала его к себе. Оно было настоящее. Оно было пропитано десятками лет моей любви.
Потом я нашла подушку. Его любимую. Плоскую, почти невесомую. В наволочке с вышитой мной когда-то в уголке незабудкой. Стежки уже поистрепались, нитки поблекли. Но она была здесь.
С этим скарбом я шла по городу. Люди шарахались от меня. Сумасшедшая, с безумными глазами, прижимающая к груди старое одеяло и подушку. Я не замечала их. Я несла не вещи. Я несла уют. Я несла сон. Я несла материнскую заботу.
На кладбище я подошла к своему месту. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая ледяную корку на снегу в розовый цвет.
– Ну вот, сынок, – сказала я деловито, как будто мы собирались стелить постель у него в комнате. – Сейчас мы тебе все обустроим. Чтобы спать было мягко и тепло.
Я начала ритуал.
Сначала я руками, ломая ногти, счистила лед и грязный снег у основания креста. Расчистила небольшой пятачок земли.
Потом я положила подушку. Аккуратно взбила ее, хоть она и была плоской, как блин.
– Вот. Головушку сюда клади. Чтобы мягко было. Чтобы сны хорошие снились.
Затем я взяла одеяло, расстелила его на могильном холме. Тщательно. Расправила все складки. Подоткнула края под смерзшиеся комья земли, чтобы не поддувало.
Всё.
Постель была готова.
Крест в пиджаке. У его подножия – подушка. А сам холм укрыт теплым детским одеялом.
Это было не страшно. Не дико. Это было правильно. Это было так, как и должно было быть.
Я стояла и любовалась своей работой. Мой мальчик одет. Его постелька готова. Скоро ночь. И мы будем спать. Вместе. Я – на своей скамейке. А он – здесь, в своей теплой, устроенной с любовью кровати.
Впервые за все это время я почувствовала что-то похожее на покой. Я сделала всё, что могла. Всё, что должна была сделать мать.
Я подготовила своего ребенка ко сну.
К долгому, зимнему, вечному сну.
Глава 13
Зима вцепилась в землю мертвой хваткой. Дни стали короткими, серыми, похожими на грязную, непрополосканную тряпку. А ночи – длинными, чернильными, с острыми, злыми звездами. Я больше не уходила с кладбища. Зачем? Чтобы возвращаться? Это было бессмысленно. Мой дом был здесь. Скамейка была моей прихожей, могила – нашей с сыном спальней.
Я перестала замечать время. Было только два состояния: свет и тьма. Днем я сидела на страже. Поправляла его пиджак, когда ветер трепал его слишком сильно. Стряхивала снег с его одеяла. Разговаривала с ним. Наши беседы стали другими. Спокойными. Мы больше не спорили о Ленке. Мы не вспоминали войну. Мы вспоминали хорошее. Как он, маленький, нашел на улице ежика и притащил его домой в шапке. Как мы пекли блины, и первый, комом, он всегда торжественно отдавал кошке. Простые, светлые воспоминания. Они были моим хлебом. Моим воздухом.
Люди стали частью пейзажа. Иногда по аллеям проходили другие – черные фигурки, несущие свою скорбь к другим холмикам. Раньше я смотрела на них с ненавистью. Теперь – с безразличием. Их горе было другим. Повседневным. Они приходили и уходили. А я – оставалась.
Иногда я слышала их шепот.
– Смотри, это она… та самая…
– Господи, до сих пор сидит…
– Говорят, она ночует здесь. Совсем рехнулась.
– Тише ты, она же слышит…
Я слышала. Но слова не задевали меня. Они были как жужжание мух. Я для них была достопримечательностью. Местным призраком. Кладбищенской юродивой. Пусть. Какое мне до них дело? Они приходили в гости к своим мертвецам. А я со своим – жила.
Однажды пришла Люба. Не ко мне. К могиле своего мужа, неподалеку. Она увидела меня. Увидела крест в пиджаке. Увидела одеяло на могиле. Застыла. Ее большое, румяное лицо стало белым, как снег. Она быстро-быстро перекрестилась, что-то забормотала и, забыв, зачем пришла, поспешила прочь, тяжело дыша и оглядываясь.
Я проводила ее взглядом без злости. Просто с легким недоумением. Чего они все так боятся? Разве есть что-то страшнее, чем хоронить своего ребенка? Все остальное – не страх. Так, суета.
«Мам, она нас боится», – сказал голос в голове. В нем не было грусти. Только констатация факта.
– Да, сынок. Боится. Они все боятся. Они боятся любви, которая сильнее смерти. Пусть боятся. Нам с тобой не страшно. Нам с тобой хорошо.
Я поправила его одеяло, которое сбилось от ветра.
– Скоро ночь, Алёшенька. Пора спать готовиться. День сегодня был длинный. Устал, небось.
Я жила в абсолютной гармонии со своим безумием. Я была царицей этого маленького царства мертвых. Его единственной живой обитательницей.
Глава 14
Ночь пришла быстро. Мороз крепчал с каждой минутой. Воздух стал плотным, хрустальным. Дышать было больно. Тишина стояла такая, что, казалось, слышно, как падают на землю звезды.
Я знала, что это будет самая холодная ночь.
На горизонте, у ворот, в последний раз замаячила фигура Михалыча. Он постоял дольше обычного. Он не подходил. Просто смотрел. Я знала, что он видит. Он видел, что я не сижу на скамейке. Я стою на коленях у могилы, что-то поправляю, обустраиваю. Готовлюсь.
Наверное, он должен был что-то сделать. Позвонить в полицию. В психушку. Но он не сделал. Может, понял, что это бесполезно. А может, в его старой душе было что-то, что позволяло ему понять – не правоту, нет, но неизбежность моего поступка. Он постоял, снял шапку, перекрестил темное пространство в моей стороне и медленно побрел в свою сторожку. Он умыл руки. Он оставил меня наедине с моей судьбой. Он был последним.
Когда его силуэт растворился во тьме, я почувствовала облегчение. Все. Свидетелей больше нет. Начинается таинство.
Я знала, что на скамейке этой ночью я не выживу. Да и не хотела. Зачем сидеть рядом, когда можно лечь вместе?
Мысль была простой и ясной. Материнским инстинктом, доведенным до абсурда. Когда ребенок болеет, мать ложится рядом, чтобы согреть его своим телом, забрать его жар себе. Мой сын болел. Его болезнью был вечный холод. И я должна была лечь рядом, чтобы согреть его.
Я расстелила на снегу, рядом с его укрытым холмиком, свой старый, тонкий плед. Мое место.
Но сначала – он.
Я еще раз, в последний раз, поправила его одеяло. Подоткнула края со всех сторон.
– Спи, мой хороший. Спи, мой медвежонок.
А потом легла сама.
На свой плед, на ледяную, землю.
Холод ударил снизу. Немилосердно, сразу, без предупреждения. Он пронзил меня насквозь. Спину, почки, легкие. На мгновение перехватило дыхание. Тело инстинктивно захотело вскочить, сбежать, спастись. Но я не позволила.
Я лежала на боку, лицом к его могиле. Так близко, что почти касалась холмика щекой. Я протянула руку и положила ладонь на его одеяло.
– Я здесь, сынок. Я рядом. Теперь я тебя не оставлю. Никогда.
Холод перестал быть пыткой. Он стал средой. Воздухом. Он стал тем, что нас объединяло. Я вдыхала его. Я впитывала его. Я забирала его себе. Я делилась с ним единственным, что у меня осталось – остатками тепла своего угасающего тела.
Я лежала, глядя на крест в пиджаке, на его темный силуэт на фоне звездного неба. И мне было не страшно. Мне было правильно. Я была на своем месте. Наконец-то. После всех этих недель метаний, боли, борьбы. Я пришла.
Домой.
Глава 15
Холод ушел.
Сначала онемели ноги. Потом руки. Я перестала их чувствовать. Тело стало чужим, деревянным. А потом пришло тепло. Странное, обволакивающее, благодатное тепло. Оно разлилось по венам, согрело изнутри. Дрожь прекратилась. Стало хорошо. Спокойно.
Я лежала, и мир вокруг меня начал меняться.
Звезды на небе поплыли, слились в причудливый узор. И я узнала его. Это же светлячки на его старом ночнике. Помнишь, Алёша? Светится в темноте, а ты водишь по нему пальцем.
Крест… это не крест. Это спинка твоей кровати. Деревянная, с шариками на столбиках. Ты любил их крутить перед сном.
А снег… это не снег. Это просто прохладный воздух из открытой форточки. Ты всегда просил не закрывать на ночь, говорил, что любишь спать в прохладе.
Я больше не на кладбище. Я у тебя в комнате. Сижу на полу у твоей кровати. Ты спишь.
Я вижу твое лицо. Такое умиротворенное. Ресницы дрожат во сне. Губы чуть приоткрыты. Ты так устал, мой мальчик. У тебя была такая трудная четверть. Столько уроков, контрольных. Ты так вымотался. Но теперь все. Теперь каникулы.
Можно спать. Сколько хочешь. Никто тебя не разбудит. Никто никуда не пошлет.
Тихо… как тихо стало. Ушел ветер. Ушли все звуки. Только твое ровное, спокойное дыхание. Дыши, мой родной. Дыши.
Я чувствую, как меня саму клонит в сон. Глаза слипаются. Такая приятная усталость. Я положу голову тебе на краешек одеяла. Совсем ненадолго. Просто посижу рядом, пока ты спишь.
Мама рядом. Все хорошо. Все на своих местах.
Я протягиваю руку, чтобы в последний раз поправить твое одеяло. Чтобы не сползло. Чтобы ты не замерз.
Губы сами шепчут слова. Последние. Самые главные. Самые правильные.
– Спи, сынок… пока каникулы… хоть отоспишься.
Тени в стенах
Глава 1
Сон Артема был тонким и рваным, как старая марля. Его выдернуло из него не постепенное пробуждение, а резкий, отрывистый СТУК! Сверху. Прямо над изголовьем. Раз. Два. Три. Монотонно, как удары молота по гробовой крышке. Дядя Миша. Опять. Или все еще? Артем не знал, когда это началось – казалось, этот стук был саундтреком всей его жизни в этой проклятой клетке на пятом этаже.
Он вжался в подушку, пытаясь задержать последние крохи тепла и небытия. Но день, жестокий и немилосердный, уже вцепился в него когтями.
– Артем! – Голос Лиды, как лезвие по стеклу, рассек утреннюю мглу еще до того, как он открыл глаза. Она стояла в дверях спальни, силуэтом на фоне тусклого света из кухни. Запах подгоревшего хлеба уже висел в воздухе. – Долго будешь валяться? Опять проспал? На работу опоздаешь, а потом будешь ныть, что денег нет! Совсем руки опустил? Посмотри на соседа – тот вон, каждый день как штык, машину новую купил! А ты? Вечно в соплях, вечно в долгах!
Артем сел, потирая виски. Сердце колотилось где-то в горле, отдаваясь эхом стуку Дяди Миши. "Работа… Долги… Сосед…" Слова Лиды обрушивались на него градом камней, знакомым до тошноты. "Ты бездельник! Ни на что не годен! Посмотри на Петю Иванова – он уже институт окончил!" Мелькнуло что-то из далекого прошлого, обрывок голоса, похожего и непохожего одновременно. Он отмахнулся от воспоминания, как от назойливой мухи.
– Лид, я встаю, – пробормотал он, голос хриплый от сна. – Сейчас… Прости…
– Прости, прости! – передразнила она, резко разворачиваясь. – Сережа! Иди завтракать! Опять в школу опоздаем из-за твоего папочки!
В кухне царил привычный хаос. Сережа, их восьмилетний сын (хотя слово "их" сейчас казалось Артему каким-то абстрактным), сидел на краешке стула, уткнувшись носом в стол. Перед ним тарелка с невнятной овсянкой. Он не смотрел на отца.
– Сереженька, кушай, – слабо попытался уговорить Артем, наливая себе чай. Рука дрожала, горячая жидкость плеснулась на скатерть. Он быстро вытер лужу рукавом. – В школе проголодаешься…
– Не хочу эту гадость! – буркнул Сережа, отодвигая тарелку. – Ты обещал новую машинку! С ракетницей! Опять забыл? Врун!
Артем вздрогнул. Голос сына, такой звонкий и требовательный, вдруг наложился на другой, из детства. "Ты обещал! Врунишка! Никогда ничего не делаешь, как надо!" Он зажмурился. "Нет, это Сережа. Просто Сережа капризничает".
– Сережа, денег сейчас… – начал он, но его перебил новый звук. Не сверху, а снизу. Или из стен? ТУК-ТУК-ТУК! Ритмичные, злые удары по батарее. Баба Тоня. Знакомая дробь. "Прекратите топтаться! Ребенок спит!" – хотя ее внучке было уже лет двадцать, и жила она где-то далеко.
– Сережа, тише, – шепотом сказал Артем, будто Баба Тоня могла услышать сквозь бетон. – Баба Тоня стучит… Из-за топота.
– Я не топал! – возмутился Сережа, но понизил голос. Он сполз со стула и схватил со старого комода что-то блестящее. Солдатики. Несколько потрепанных оловянных фигурок с поблекшей краской. Артем замер. Эти солдатики… Он узнал их. Точная копия тех, что он собирал в детстве. Те самые, с отломанной саблей у кавалериста, вмятинкой на кирасе у пехотинца. Как они тут оказались? Он был уверен, что выбросил их, когда переезжал… Или мать выбросила? Холодок пробежал по спине.
– Пап, смотри, война! – Сережа с грохотом столкнул двух солдат. Звук эхом отозвался в тишине, наступившей внезапно. Стук Дяди Миши прекратился. Ровно в тот момент, когда Артем, доведенный до предела, подумал: "Вот сейчас встану и пойду наверх! Поговорю с этим чертовым Дядей Мишой раз и навсегда! Хватит!"
Тишина после шума была оглушительной. Артем замер, прислушиваясь. Ни стука, ни сверления. Ничего. Как будто стена впитала не только звук, но и его решимость. Он почувствовал себя идиотом. Идти? Скандалить? А что он скажет? "Не стучите, пожалуйста"? Он представил Дядю Мишу – здоровенного, хмурого мужика с татуировками, который лишь презрительно хмыкнет. Или того хуже…
Лида грохнула сковородой в раковину.
– Артем! Ты опять в прострации? Совсем отупел? Убери за ребенком! И чайник убери! Вечно все сама!
Ее голос нарастал, превращаясь в оглушительный гул. Артем видел, как ее губы двигаются, видел раздражение на лице, слышал отдельные слова – "убери", "вечно", "сама" – но смысл ускользал. Звуки отдалялись, как будто кто-то выкручивал ручку громкости жизни. Он смотрел на крошки хлеба на столе, на отражение своего бледного лица в темном окне. Мир сузился до этих крошек и этого лица. Ощущение полной беспомощности, как у зверя в тесной клетке, который видит прутья, чувствует запах чужих рук, но не может ни убежать, ни понять. Зачем? Почему именно он? Почему все – Лида, Сережа, Дядя Миша, Баба Тоня – словно сговорились, чтобы давить, пилить, высасывать из него последние силы? Враждебный. Совершенно враждебный и несправедливый мир.
Он не заметил, как Сережа, бросив солдатиков, убежал в комнату. Не заметил, как Лида, фыркнув, ушла в ванную. Он просто сидел, глядя в никуда, пока ледяная волна диссоциации не отхлынула, оставив после себя лишь горький осадок стыда и усталости. Обычный день в аду только начинался.
Глава 2
Тишина после утреннего ада была обманчивой. Артем механически вытирал крошки со стола, пальцы все еще слегка дрожали. Ощущение клетки не отпускало, лишь на мгновение приглушившись. И тогда зазвонил телефон. Стационарный, древний, с дребезжащим колокольчиком, висевший в прихожей. Звонок был не просто громким – он был пронзительным, как сигнал тревоги, врезающийся прямо в висок.
Артем замер. Ладонь, сжимавшая тряпку, моментально покрылась липким потом. Сердце не просто забилось – оно словно сорвалось с цепи, бешено колотясь где-то в горле, перекрывая дыхание. Холодная волна покатилась от затылка вниз по позвоночнику. Он знал. Знал этот рингтон с детства, хотя телефон сменился. Знал ту особую, леденящую паузу, которая всегда предшествовала голосу на том конце.
– Артем! Телефон! – крикнула Лида из ванной, но ее голос доносился словно из-под воды.
Он медленно, как на эшафот, пошел в прихожую. Каждый шаг отдавался гулко в пустоте его собственного черепа. Поднял трубку. Голос врывался в ухо, даже не дожидаясь приветствия. Ледяной. Металлический. Лишенный всякой теплоты, лишь безупречная дикция и ядовитое презрение.
– Артемий. – Не «Артем», не «сын». Артемий. Как к подсудимому. – Опять бездельничаешь? Судя по времени, ты даже на работу еще не ушел. Или уже уволили? Опять?
Он попытался вдохнуть, но воздух застрял комом в горле. Голос матери. Точь-в-точь как в самых страшных кошмарах. Точь-в-точь как… как голос Лиды утром? Мысль мелькнула, обожгла, но утонула в накатывающей панике.
– Я… я собираюсь… – прохрипел он.
– Не мямли! – отрезала она. – Ты всегда был таким. Непутевый. Ни на что не способный. Думаешь, я не знаю? Знаю. Знаю про твои долги. Знаю, что ты жену и ребенка в нищете держишь. Соседи стыдятся рядом с тобой жить. Как мой отец стыдился твоего отца. Яблоко от яблони.
Каждое слово – как удар хлыстом. "Непутевый". "Ни на что не способный". "Долги". "Стыдно". Те же самые слова, что Лида швыряла ему утром. Тот же ритм обвинения. Голоса начали сливаться в его голове в один нескончаемый, уничтожающий хор. Ничтожество. Неудачник. Позор.
– Мам… – он попытался вставить хоть что-то, хоть звук.
– Молчи! – шипение в трубке заставило его отдернуть ухо. – Я предупреждаю. Терпение лопнуло. Скоро приеду. Сама. Наведу порядок в твоем свинарнике. Разберусь с твоей никчемной жизнью. Приготовься.
Щелчок. Гудки. Короткие, прерывистые. Как удары пульса в его висках.
Артем стоял, прижавшись спиной к холодной стене прихожей. Трубка безжизненно болталась на шнуре. Мир вокруг поплыл, закружился. Звуки – шум воды из ванной, голос Сережи из комнаты – отдалились, превратились в невнятный гул. Дыхание стало частым, поверхностным, воздуха катастрофически не хватало. Грудь сдавило стальными обручами. Пот струился по вискам, спине. Руки тряслись так, что он сжал их в кулаки до побеления костяшек. Приедет. Порядок наведет. Разберется. Эти слова бились в его мозгу, как пойманные птицы. Перед глазами поплыли темные пятна. Запах… Резкий, знакомый, духи… "Шанель №5", – пронеслось в голове, и тут же накатила волна тошноты, горькой, как желчь. Он зажмурился, пытаясь отогнать обрывок воспоминания – мать, склонившаяся над ним, облако тяжелых духов, и всепоглощающее чувство стыда, страха, желания провалиться сквозь землю…
– Артем! Ты что там, в обморок упал? – Резкий голос Лиды вырвал его из нарастающей паники, но не остановил ее. Она вышла из ванной, на ходу завязывая халат, и увидела его состояние – бледного, дрожащего, покрытого испариной. Ее лицо исказилось не сочувствием, а раздражением. – Опять?! Опять твои нервы? Собраться не можешь! Вечно ты как тряпка! Мать позвонила? Ну конечно, кто же еще! Она тебя и доводит до такого состояния, а ты ведешься!
Ее слова – "тряпка", "нервы", "вечно" – врезались в его сознание, смешавшись с только что прозвучавшими словами матери. Интроекция сработала мгновенно: голоса слились в единый, непререкаемый приговор его несостоятельности. Он попытался что-то сказать, объяснить ужас этого звонка, предупреждения, но смог только бессвязно прошептать:
– Она… она приедет…
– Пусть приезжает! – фыркнула Лида, проходя мимо него на кухню. – Может, хоть она тебя в чувство приведет! А ты возьми себя в руки, а то Сережа…
Звон разбивающегося стекла!
Из комнаты Сережи донесся громкий треск и довольный возглас. Лида резко обернулась, бросилась к двери.
– Сережа! Что ты натворил?!
Артем, все еще борясь с паникой, с трудом заставил ноги двигаться. Он шагнул на кухню, опираясь о дверной косяк. Взгляд упал на стол. Рядом с его утренней чашкой лежали осколки. Мелкие, острые. Сиреневая чашка. Его любимая. Та, из которой он пил кофе по выходным, пытаясь создать иллюзию спокойствия. Он тупо смотрел на осколки. Сережа? Но Сережа был в своей комнате, он только что там что-то разбил… А эта чашка стояла здесь, на кухне. Он не помнил, чтобы брал ее в руки после звонка. Не помнил, как она могла упасть. Он стоял здесь? Дергал стол в приступе паники? Или…?

