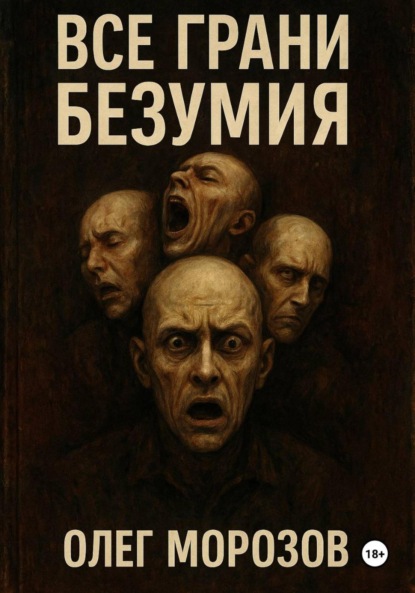
Полная версия:
Все грани безумия
Ольга научилась понимать его базовые потребности по жестам, взглядам, стонам. Указательный палец в сторону кухни – "хочу есть" или "пить". Потирание живота – "болит". Беспокойное ерзание – "в туалет". Застывший, испуганный взгляд в пустоту – "страшно". Она стала его переводчиком, его голосом в этом немом мире. Это отнимало невероятные силы. Каждое взаимодействие требовало сверхконцентрации, чтения едва уловимых сигналов.
Физически он слабел. Координация ухудшилась. Он мог промахнуться ложкой мимо рта, разлить чай. Одевание превращалось в долгий, унизительный ритуал: он путал рукава, не мог застегнуть пуговицы, терялся в просторной футболке. Ольга и Марк терпеливо помогали, разговаривая спокойным, ободряющим тоном, как с маленьким ребенком: "Давай ручку сюда… Молодец! А теперь другую… Вот так". Он подчинялся, его движения были вялыми, механическими, взгляд отсутствующим. Лишь иногда в глазах мелькала искра стыда или гнева, быстро гаснущая.
Купание стало битвой. Он боялся воды, шума душа, скользкого пола. Ольга и Марк делали это вместе: один осторожно мыл, другой держал, успокаивал, ловил его судорожно цепляющиеся за что-то руки. Его тело, некогда крепкое, теперь было хрупким, покрытым старческими пятнами, кости выпирали под тонкой кожей. Видеть его таким – беспомощным, испуганным, сопротивляющимся элементарной гигиене – было пыткой. Ольга каждый раз выходила из ванной мокрая не только от воды, но и от слез, которые она сдерживала во время процедуры.
Марк стал незаменим. Он находил странные, но работающие способы достучаться до деда. Приносил старые инженерные журналы, листал их перед ним, показывая чертежи мостов. Николай Петрович мог подолгу смотреть на знакомые линии, водить по ним дрожащим пальцем, издавать тихие, одобрительные звуки: "М-м-м… да-а…" Марк включал записи классической музыки – Чайковского, Шостаковича. Иногда дед замирал, слушая, кивал в такт, его лицо ненадолго теряло маску растерянности, становясь сосредоточенным, почти просветленным. Или просто садился рядом в кресло, брал его иссохшую руку в свою и молча сидел, глядя в окно. В эти минуты тишины, без необходимости слов, было какое-то хрупкое, немое понимание.
Но большую часть времени Николай Петрович проводил в своем кресле. Он смотрел в окно, но не на улицу, а как будто сквозь нее. Взгляд его был направлен внутрь, в хаос собственного сознания. Иногда он тихо бормотал что-то несвязное. Иногда плакал – тихо, беззвучно, слезы просто текли по щекам, а он даже не пытался их вытереть. Чаще – сидел абсолютно неподвижно, погруженный в молчание, которое было страшнее любых слов.
Именно в эти долгие часы молчания или бормотания все чаще начало прорезаться одно единственное, четкое сочетание звуков. Оно всплывало не к месту, без видимой причины, как навязчивый рефрен:
"А мама будет рядом когда все закончится…"
Сначала Ольга вздрагивала каждый раз, слыша это. Фраза резала слух своей детской надеждой на фоне взрослой трагедии. Потом она стала привычной. Он произносил ее не как вопрос, не с мольбой, а как констатацию факта, как единственную незыблемую истину в рушащемся мире. Голос при этом был тихим, монотонным, лишенным эмоций. Просто: "А мама будет рядом когда все закончится". Пауза. Потом снова. И снова.
Однажды вечером, укладывая его спать (это тоже требовало усилий – он мог заснуть в кресле, а попытка переложить в кровать вызывала испуг и сопротивление), Ольга услышала это снова. Она поправляла одеяло, а он лежал с открытыми глазами, смотря в потолок, и четко, как молитву, повторял: "А мама будет рядом когда все закончится… А мама будет рядом когда все закончится…"
Ольга не выдержала. Горечь, усталость, года накопленного напряжения прорвались наружу. Она опустилась на край кровати, взяла его холодную руку и тихо, срывающимся голосом спросила:
"Папочка… что должно 'кончиться'? Что 'все'? Мама не придет… Она… она же давно умерла. Помнишь? Бабушка Настя…" Она знала, что он не поймет, не ответит. Но ей нужно было сказать это. Выпустить боль.
Он медленно повернул голову. Его глаза, обычно мутные, сфокусировались на ее лице с неожиданной, почти пугающей интенсивностью. Он смотрел на нее долго, изучающе. Потом его губы дрогнули, сложились в нечто, отдаленно напоминающее улыбку. И он произнес, не бормоча, а четко, ясно, как будто пробиваясь сквозь толщу немоты:
"Ты…"
Одно слово. Одно-единственное слово. Потом его взгляд снова затуманился, он отвернулся к стене, и снова зашептал свою неизменную фразу: "А мама будет рядом когда все закончится…"
Ольга замерла. Сердце бешено колотилось. "Ты…" Он узнал? Он понял? Он назвал ее мамой? Или просто произнес случайный звук? Она сидела, сжимая его руку, не в силах пошевелиться, пока его дыхание не стало ровным и глубоким – он уснул.
Это "ты…" стало для нее одновременно уколом боли и каплей странного утешения. Он не узнавал ее как дочь Ольгу. Но в его разрушенном сознании, быть может, образ матери сливался с образом женщины, которая кормила, мыла, утешала, была рядом. И в этом слиянии было страшное искажение, но и жуткая правда: она стала для него той самой "мамой", которая должна быть рядом "когда все закончится". Она была его последней защитой в этом мире, который для него уже почти закончился.
С этого момента фраза звучала чаще. Она стала его основным способом реакции на мир. Если ему было больно или страшно – он повторял ее громче, настойчивее. Если Ольга или Марк брали его за руку – шептал ее тише, спокойнее, как будто удостоверяясь, что обещание исполняется. Если в комнате было слишком шумно или светло – бормотал ее с раздражением, как упрек. Иногда он просто сидел и монотонно повторял ее под тиканье часов, как будто это дыхание его угасающего разума.
Ольга слушала. Она больше не спрашивала. Она просто была рядом. Когда он шептал фразу в страхе, она брала его руку и тихо отвечала: "Да, папочка. Мама рядом. Все будет хорошо". Лгала? Или говорила правду от имени всех матерей мира, обещавших защиту своим детям? Она не знала. Но видела, как его пальцы слабо сжимались в ответ, как напряжение ненадолго спадало с его лица. Иногда после этого он затихал, иногда продолжал шептать, но уже чуть спокойнее.
Она сама была на грани. Выгорание съедало ее изнутри. Вечная усталость, чувство вины (достаточно ли она делает? не злится ли?), горечь от потери отца, которого помнила, злость на болезнь, на несправедливость мира. Она ловила себя на раздражении от его бесконечного шепота, на желании крикнуть: "Замолчи!". Потом ненавидела себя за эти мысли. Сергей помогал, но работал много. Саша приезжала на выходные, давая Ольге передышку. Марк был опорой, но он был молод, у него должна быть своя жизнь. Часто по ночам, когда все затихало, Ольга сидела на кухне с чашкой остывшего чая и плакала. Плакала тихо, чтобы не разбудить отца, чей монотонный шепот иногда доносился из комнаты даже сквозь закрытую дверь.
Однажды Марк, застав ее в такой момент, обнял.
"Он же не один, мам, – сказал он тихо. – Ты с ним. Он чувствует. Даже так. И эта его фраза… это ведь не просто слова. Это… его способ держаться. За что-то хорошее. За обещание."
"Но это обещание – ложь, Маркуша, – прошептала Ольга. – Мамы нет. А 'все'… оно не кончится. Оно будет длиться и длиться, пока…"
"Пока не кончится, – перебил Марк мягко. – Для него. И для него ты – та 'мама', которая исполняет обещание. Быть рядом. До конца. Это… страшно важно. Для него."
Ольга посмотрела на сына, видя в его глазах не юношеский максимализм, а взрослое, тяжелое понимание. Она кивнула. Не потому, что поверила, а потому, что другого выхода не было. Быть рядом. Быть его "мамой". Быть островком в его море хаоса и страха. Даже когда единственным ответом на все в мире был детский шепот о матери, которая придет.
Николай Петрович сидел в своем кресле. Внешний мир был для него калейдоскопом смутных образов, звуков, ощущений – иногда теплых (прикосновение руки), иногда пугающих (громкий звук, боль), чаще – безразличных. Внутри царил хаос. Обрывки лиц, мест, запахов всплывали и тонули, не складываясь в картину. Чувства были примитивны: голод, холод, боль, усталость, и главное – постоянный, фоновый страх. Страх перед неопределенностью, перед непонятным миром, перед самим собой, который ничего не понимал и не контролировал.
И только одна вещь оставалась ясной и незыблемой. Одно знание, выжженное в самой глубине его разрушенного сознания, как первобытный инстинкт:
А мама будет рядом когда все закончится.
Эта фраза была не мыслью, а ощущением. Твердыней. Последней истиной. Он цеплялся за нее, как тонущий за соломинку. Он произносил ее, чтобы удостовериться, что она все еще там. Чтобы напомнить миру (и себе) об этом обещании. Чтобы унять подступающую панику. Чтобы просто… существовать. В этих словах был весь его сжавшийся до точки мир. Его прошлое (мама). Его настоящее (ожидание рядом). Его будущее ("когда все закончится"). И его вера. Иррациональная, детская, непоколебимая вера.
И когда Ольга, измученная, но нежная, поправляла ему плед, ее рука на его плече, ее голос, говорящий "Я здесь", сливались в его восприятии с этим обещанием. Она была "рядом". Она была воплощением той "мамы", о которой шептали его губы. В этом слиянии образов не было логики. Была лишь глубинная, трагическая, необходимая для выживания правда его угасающего разума.
Он сидел в кресле, глядя в никуда, и шептал. Ольга сидела рядом на табурете, глядя на него, и слушала. Их связь теперь держалась на этом хрупком мостике из пяти слов. На вере одного и жертвенной любви другой. На обещании, данном давным-давно ребенку на пожелтевшей фотографии, которое теперь исполняла его дочь, ставшая ему матерью в час самого страшного конца.
Глава 7
Кресло. Оно стало всей вселенной Николая Петровича. Миром, тюрьмой, колыбелью и преддверием. Его переносили лишь вечером в ванную, чтобы помыть и в койку перед сном. Его тело, некогда крепкое, теперь было легким, как у ребенка, и невероятно хрупким. Кости проступали под пергаментной кожей, суставы казались слишком крупными. Движения, даже попытки пошевелиться, требовали невероятных усилий и часто заканчивались тихим стоном или тем же вечным шепотом: "А мама будет рядом когда все закончится…"
Он почти не открывал глаз. Веки были тяжелыми, полупрозрачными синеватыми заслонками от слишком яркого, слишком непонятного мира. Когда они все же приподнимались, взгляд был устремлен не в окно, а куда-то внутрь, в глубину собственного угасания, или просто в пустоту перед собой. В этом взгляде не было ни мысли, ни вопроса, лишь глубокая, первобытная усталость и смутная тревога.
Кормление превратилось в медленное вливание жидкой овсянки или бульона через трубочку. Глотательный рефлекс слабел. Ольга сидела рядом на табурете, капая пищу по капле, терпеливо ждала, пока горло совершит трудное движение, вытирала подбородок мягкой салфеткой. Каждая ложка занимала минуты. Иногда он отворачивался, слабо мотая головой, издавая звук, похожий на "не-е-ет" или просто стон. Тогда она откладывала ложку, брала его иссохшую ладонь в свои руки, гладила, шептала: "Тихо, папочка… Мама здесь. Мама рядом." И только после этого, успокоенный знакомым прикосновением и знакомыми словами (ее слова сливались с его фразой в единое обещание), он позволял кормить себя снова.
Марк приходил каждый вечер после учебы. Он садился на пол у кресла, клал голову на подлокотник рядом с дедовой рукой. Иногда читал вслух что-то легкое – стихи, отрывки из старых приключенческих книг, которые Николай любил когда-то. Чаще – просто молчал, держа его руку. Николай Петрович редко реагировал. Лишь иногда его пальцы слабо шевелились в ответ на прикосновение внука, или его дыхание, обычно поверхностное и хрипловатое, на мгновение становилось чуть глубже, спокойнее.
Но большую часть времени Николай Петрович проводил один. Вернее, физически с Ольгой, которая теперь почти не отходила от кресла (она ушла с работы окончательно), но ментально – в полной изоляции. Он спал урывками, по 10-20 минут, днем и ночью. Просыпался с тихим всхлипом или сразу с шепотом своей фразы. Потом снова погружался в тяжелую дрему.
Фраза звучала постоянно. Уже не шепотом, а чаще беззвучным движением губ, едва слышным дыханием, формирующим знакомые слова: "Амамабудетрядокогдавсекончится…" Она слилась в одно бесконечное слово, мантру, ритм его угасающей жизни. Он повторял ее во сне. Повторял в полудреме. Повторял в редкие моменты бодрствования. Она стала не просто мыслью или оберегом – она стала его дыханием. Его пульсом. Единственным доказательством того, что связь между телом и каким-то подобием сознания еще существует.
Ольга слушала. Эта бесконечная, монотонная фоновая молитва врезалась в ее собственное сознание. Она ловила себя на том, что мысленно заканчивает фразу, когда он замолкал на секунду. Она слышала ее во сне. Она начинала и заканчивала ею свой день. Иногда, в моменты предельной усталости, ей казалось, что это не он, а стены комнаты шепчут это обещание-заклинание. И она отвечала. Шептала в такт: "Да, мама рядом. Я здесь". Иногда просто клала руку ему на грудь, чувствуя под ладонью слабое биение сердца и вибрацию беззвучно шевелящихся губ.
В один из дней, Николай Петрович проснулся в своем кресле не с привычным шепотом, а с резким, хриплым вдохом. Его глаза открылись неестественно широко. В них не было пустоты. Был чистый, неразбавленный, детский ужас. Ужас перед тем, что он видел внутри. Перед абсолютной тьмой, хаосом, небытием, которое вдруг стало осязаемым. Он попытался втянуть воздух, но вместо вдоха получился лишь болезненный, сиплый звук. Его тело напряглось в кресле, пальцы судорожно вцепились в подлокотники.
"МАМА!" – вырвалось у него хриплым, разорванным криком, полным такой первобытной паники, что Ольга, дремавшая рядом на табурете, вскочила, сердце заколотилось. "МАМА! БОЮСЬ!"
Он задыхался, глаза, полные слепого страха, метались по комнате, не видя ее, не узнавая ничего, кроме всепоглощающего кошмара внутри.
Ольга бросилась к нему, обхватила его хрупкие плечи, прижала его голову к своей груди, как когда-то, качая маленькую Сашу во время грозы. Она гладила его седые, редкие волосы, прижимала к себе, качала из стороны в сторону, заглядывая в эти безумные, ничего не видящие глаза.
"Я здесь! Мама здесь! – кричала она сквозь собственные слезы, ее голос дрожал, но звучал твердо, как никогда. – Не бойся! Я с тобой! Держу тебя! Мама здесь! Все хорошо! Не бойся, солнышко, не бойся!"
Он вырывался сначала, захлебываясь криком: "МАМА! БОЮСЬ!" – но ее объятия были крепки, ее голос, повторяющий "Мама здесь!", пробивался сквозь его панику. Постепенно его сопротивление ослабло. Напряжение в теле стало сменяться дрожью. Дикий крик перешел в прерывистые, жалобные всхлипы. "Ма-ам… бо-оюсь…" – плакал он, уткнувшись лицом в ее грудь, как испуганный малыш.
"Знаю, знаю, милый… – шептала Ольга, качая его, слезы текли по ее лицу и падали ему на голову. – Мама знает. Но я здесь. Я держу тебя. Ты не один. Совсем не один. Я не отпущу. Все будет хорошо. Все скоро… кончится." Она говорила последние слова, целуя его в макушку, зная, что говорит правду в самом страшном смысле.
Дрожь понемногу стихала. Его дыхание, прерывистое и хриплое, начало выравниваться, становиться поверхностным, но более ровным. Он перестал плакать. Ослабевшие пальцы разжали свою хватку на подлокотнике. Веки медленно опустились над глазами, все еще влажными от слез. Он не уснул. Он… отступил. Ушел от края паники обратно в свою глубину.
Ольга не отпускала. Она продолжала качать его, сидя на краю кресла, его голова – на ее плече. Она гладила его спину, чувствуя под тонкой пижамой выпирающие позвонки. Шептала бессвязные слова утешения, смешанные с его именем и словом "мама". Она была его щитом. Его гаванью. Его "мамой" в последний, самый страшный миг его сознательного (если это можно было назвать сознанием) существования. Она исполнила обещание. Была рядом.
Крик больше не повторился. После того утра он словно перешагнул последний порог. Шепот фразы "Амамабудетрядокогдавсекончится…" стал еще тише, еще монотоннее, почти беззвучным движением губ. Физические потребности почти исчезли. Он перестал реагировать даже на прикосновения Марка. Дыхание стало едва заметным, поверхностным. Он просто… угасал. Сидя в своем кресле. Глядя в никуда закрытыми глазами. Шевеля губами в немом ритуале своей единственной оставшейся истины.
Ольга почти не спала. Она дежурила у кресла. Читала. Вязала. Просто сидела, держа его руку в своей, слушая его едва слышное дыхание и следя за едва заметным движением губ. Иногда она клала пальцы на его тонкую, холодную запястье, чтобы почувствовать слабый, но все еще присутствующий пульс. Марк сидел с ней по вечерам. Молча. Иногда он приносил фотографию бабушки Насти – молодой, строгой. Ставил ее рядом с креслом деда. Николай Петрович не смотрел на нее. Но Ольге казалось, что его шепот становится чуть увереннее, когда фотография рядом.
За окном была весна, зеленели деревья. Ольга открыла форточку – в комнату ворвался запах влажной земли и молодой листвы. Пение птиц. Николай Петрович не отреагировал. Он сидел в своем кресле, откинув голову на подголовник. Дыхание было таким тихим, что казалось, вот-вот остановится. Губы почти не шевелились.
Ольга подошла, встала на колени перед креслом. Взяла его руку в свои. Она смотрела на его лицо – изможденное, но спокойное. На его губы. Она наклонилась ближе.
Едва уловимо, на грани слышимости, больше на выдохе, чем на звуке, его губы сформировали знакомые очертания:
"А… мама… будет… рядом…"
Пауза. Долгий, едва уловимый вдох.
"…когда… все…"
Еще одна пауза. Выдох длиннее. Казалось, это конец.
Но затем, с последним остатком воздуха, вышло:
"…кончится."
И больше ничего. Дыхание продолжалось, ровное, нитевидное. Но губы замерли. Фраза, звучавшая бесконечным рефреном его угасания, замолчала. Осталось только дыхание. Тихий свист воздуха в слабых легких. И тиканье часов на стене.
Ольга прижала его руку к своему лицу. Она не плакала. В ней была огромная, всепоглощающая тишина. Она сидела на полу у его кресла, держа его холодную руку, слушала его дыхание и смотрела в окно на молодую зелень. Она была рядом. Как обещала. Как мама. Ждала. Когда все кончится.
Похоронка
Глава 1
Мир не взорвался. Он не треснул, не застонал. Он просто кончился. Выключился. Как старый советский телевизор «Рубин». Экран долго гудел, потом картинка сжималась, съеживалась в одну невыносимо белую, слепящую точку и – щелк. Темнота. И тихий, уходящий в никуда звон в ушах. Вот так и мой мир. Щелк.
А до щелчка был стук.
Вежливый, неуверенный, почти виноватый стук в дверь. Я еще подумала – почтальон с пенсией, чего так рано? Открыла. А там не почтальон. Там двое. Один молодой, в форме, лицо бледное, старается держать подбородок прямо, а кадык дергается. И второй, в штатском, постарше, с глазами выцветшими, как будто он уже сотню таких вот извещений принес, и они стерлись.
Я всё поняла. Сразу. Не умом. Нутром. Той древней материнской нитью, которая за девять месяцев связывает тебя с ребенком намертво, навсегда. Эта нить, эта пуповина, она не рвется. Никогда. Даже если ее перерезать ножом, она остается. Невидимая, дрожащая нить. И в тот момент я почувствовала, как она лопнула. Оборвалась с сухим, беззвучным треском.
Они что-то говорили. Губы шевелились. Слова летели, как сухие листья, не задевая меня. «Мужайтесь…», «долг…», «Родина…». Пустые, мертвые слова. Они говорили не со мной. Они исполняли ритуал. Отвратительный, казенный ритуал.
А потом тот, что в штатском, протянул мне бумагу. Сложенную вчетверо. Аккуратно. Как будто это не приговор, а поздравительная открытка.
Я взяла. Пальцы не слушались. Деревянные. Бумага оказалась легкой. Слишком легкой для того, чтобы нести в себе вес смерти целого мира. Я развернула.
Буквы. Черные, ровные, отпечатанные на принтере. Убийцы. Они выстроились в ряд, в слова, а потом сложились в имя. Твое имя. Фамилия, имя, отчество. Мой мальчик. Алёша.
И дата. Дата смерти.
Я смотрела на эти цифры и не понимала. Как у смерти может быть дата? У жизни – да. День рождения. Я помню тот день. Каждую минуту. Снег валил хлопьями, я смотрела в окно роддома и думала, что ты родился в настоящую русскую сказку. А у смерти… смерти не должно быть даты. Смерть – это вечность. Это отсутствие времени.
Молодой, тот, что в форме, кашлянул. «Вам нужно будет… для оформления…»
Я подняла на него глаза. Наверное, в моих глазах было что-то такое, что он осекся. Замолчал. Потому что я смотрела сквозь него. Сквозь них обоих. Сквозь стену, на которой висела твоя детская фотография – ты там беззубый, смешной, в панамке набекрень. Сквозь город. Сквозь всю страну. Я смотрела в ту точку на карте, в ту проклятую землю, где они тебя оставили.
Я молча закрыла дверь перед их лицами. Не сказала ни слова. Зачем? Слова – это для живых. А я умерла в тот самый миг, как прочла твое имя.
Я прошла на кухню. Села на табуретку. Положила бумагу на стол. Я смотрела на нее, долго. Время остановилось. Солнце ползло по небу, тени на полу вытягивались, становились длинными, уродливыми. Кошка Мурка потерлась о мои ноги, требуя еды. Я не пошевелилась. В ушах стоял тот самый тихий, высокий звон, как от погасшего экрана.
Пустота. Не та, о которой пишут в книгах – звенящая, трагическая. Нет. Другая. Ватная. Липкая. Она заполняла все: комнату, голову, грудную клетку. Она вытеснила воздух, мысли, чувства. Осталась только бумага на столе. Четыре угла. Черные буквы. И твое имя. Моя последняя молитва и мое вечное проклятие. Алёша.
Глава 2
Похороны – это слово не отсюда. Это слово из той, прошлой жизни. Где были ритуалы, слезы, сочувствующие взгляды. То, что происходило со мной, было не похоронами. Это было сюрреалистическим, уродливым спектаклем, где я была и зрителем, и главной героиней, но не могла произнести ни слова.
Приехала сестра, Аня. Младшая, деятельная, шумная. Она влетела в квартиру, как вихрь. Что-то говорила, суетилась, накапала валерьянку, которую я не пила. Ее лицо – родное, знакомое – казалось мне маской. Она плакала. Ее слезы были настоящими, горячими. А я не могла. Из меня всё выжгло.
– Валя, ну скажи что-нибудь! Кричи! Бей посуду! Не молчи так, я тебя умоляю! – она трясла меня за плечи. А я смотрела на нее, как на аквариумную рыбку за стеклом. Вижу, что рот открывает, а звука нет.
– Аня, – сказала я, и собственный голос показался мне чужим, скрипучим, как несмазанная дверная петля. – Какой гроб?
Она замерла. Искусанные губы задрожали.
– Валечка… привезли в закрытом. Так надо. Поверь, так лучше.
Цинк.
Слово холодное, как металл, который оно обозначает. Бездушное, как казенная инструкция. Они запечатали тебя. Заковали. Чтобы я не увидела. Чтобы я не коснулась. Чтобы не нарушила порядок их аккуратного, распланированного горя. Они украли у меня последнее. Последний взгляд. Последний поцелуй в холодный лоб. Последнее «прости».
На кладбище было много людей. Коллеги из школы, соседи, твои друзья… Они подходили, обнимали меня. Их прикосновения обжигали. Их слова сочувствия были как соль на рану. «Держитесь, Валентина Петровна». «Какой парень был…». «Светлая память…». Они говорили о тебе в прошедшем времени. А для меня ты не был в прошедшем. Ты был в вечном.
Аня держала меня под руку. Ее рука была теплой, живой. Моя – ледяной. Я смотрела на яму. Черный, прямоугольный провал в раскисшей ноябрьской земле. И на ящик. Он стоял на двух табуретках, покрытый красной тканью. Красное на сером. Как кровь на снегу.
Священник что-то пел нараспев. Слова были правильные, про вечный покой и жизнь бесконечную. Но они были ложью. Какой покой, когда тебя, двадцатилетнего, полного сил, разорвало на куски? Какая жизнь, когда твое тело лежит в запаянном металле?
Потом ящик начали опускать. Скрипели веревки. И комья земли полетели вниз.
Бум.
Глухой, тошнотворный звук.
Бум.
Это не земля. Это молот бил по моей голове.
Бум.
По моему сердцу.
Бум.
По моей душе.
Я смотрела, не отрываясь. Я должна была запомнить. Этот звук. Этот запах. Этот цвет. Это всё, что у меня от тебя осталось.
Когда всё кончилось, и над землей вырос уродливый холм, люди стали расходиться. Аня потянула меня за рукав.
– Пойдем, Валя. Поминки. Люди ждут.
Я вырвала руку.
– Я останусь.
– Валюш, нельзя. Холодно. Ты заболеешь. Пойдем, выпьешь рюмочку, надо помянуть…
– Я останусь. – Я сказала это так, что она отступила. В моем голосе не было ничего, кроме выжженного сердца.
Она ушла с остальными. Я осталась одна. И тишина, которая до этого была внутри, теперь стала и снаружи. Только ветер плакал в голых ветвях. Я опустилась на колени. Не почувствовала ни холода, ни сырости. Я протянула руку и коснулась земли. Этой рыхлой, перемешанной с глиной, влажной земли.

