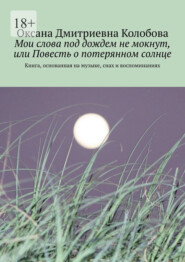скачать книгу бесплатно
– Я ненавижу, когда ты куришь – неважно что.
Ия передернула плечами. Я думала, что она полезет за сигаретой, но нет.
– Так о чем ты тогда подумала?
– О мошках, о Биме, о бабушке и манной каше. И о тебе.
– Расскажи. И вытрись полотенцем. Замерзнешь.
Я помолчала, обдумывая, что конкретно она хочет услышать, и то, что я могла бы ей доверить – скажем так. Я взяла фотоаппарат, завернула его в полотенце и положила на подлокотник, будто это могло что-то исправить. Когда хоронят, тоже, наверное, думают, мол, авось проснется сейчас и скажет, что все это было ошибкой.
– Бим – моя собака. Раньше, когда я была маленькой и когда он был еще жив, он жевал мошек, а я говорила ему, чтобы глотал их прям так, целиком.
– Здорово.
– В моем ретрофутуризме он все еще жует их несмотря ни на что.
– А с манной кашей что?
– Я жевала ее, а бабушка говорила мне глотать ее целиком, как я говорила глотать мошек моему Биму.
– А я?…
– А ты – это то, как мы сидим с тобой рядом и говорим невесть о чем.
– Как сейчас?
– Ага.
Она молчала, а я как следует обмозговывала то, почему она ничего не сказала мне в ответ. Получается, меня в ее ретрофутуризме не было? Получается, она бы променяла меня на мир, в котором есть все, кроме меня? Я почти могла это понять. Но не до конца – я бы променяла ее на Бима и, может, даже на бабушку с ее кашей – но ни на что и ни на кого больше. Почему она просто не могла добавить меня в своей ретрофутуризм?
– Ты не представляешь как сильно я хочу домой.
Я посмотрела на фотоаппарат. Он, тоже, наверное, много чего хотел. Не промокнуть, например.
– Как думаешь, ему хана?
– Да не, нормально. Оклемается.
Стекла отчего-то запотели и я провела по своему рукой, оставив на нем разводы из маленьких капелек. Долго ждать не пришлось – на меня тут же уставились промокшие провода и птицы, усадившие на них свои маленькие задницы. Они сидели ровно друг за другом, а их сверкающие взгляды были устремлены в одну точку. Их перья, мокрые от дождя, казались напомаженными подсолнечным маслом. Впившись глазами в наши окна, они пожирали все, что находилось за их пределами – мое смятенное лицо и мои покрасневшие уши, обмотанный мокрым полотенцем фотоаппарат и пятна от горчицы на заднем сидении. Страх опускался на меня постепенно. Я обнаружила его внезапно.
Для птичьих их взгляды казались мне до предела осмысленными. Я поймала на себе один такой и меня тут же передернуло от страха, и кажется, легкой лихорадки – она обхватила мои лодыжки и села своей маленькой задницей мне стопы, чтобы я уж точно никуда от нее не сбежала. Я зашторила окно велюровой занавеской и повернулась к нему спиной, притворившись, что ничего не заметила. Но этот взгляд приклеился к моим лопаткам первоапрельской запиской «пни меня под зад», и я сидела, до предела нервная и какая-то напружиненная, чувствуя, как чьи-то глаза выводят на моем позвоночнике упрямые дуги и запятые – как в игре, где надо рисовать на спинах, а потом угадывать рисунки вслепую. Тогда рисунок был примерно таким:
Я украдкой на нее посмотрела. Ее лицо казалось мне озадаченным. Наверняка Ия пробовала на вкус какой-то новый вопрос. Вдруг за одну секунду ее выражение лица сменилось чем-то другим. И не успела я уловить это изменение, как она заговорила со мной.
– Ты похожа на испуганного котенка. Только ушей не хватает.
Не ожидав, что она что-нибудь скажет, я неосознанно передернула плечами. Холодок прошелся по моему телу и замер на дождевых каплях, застывших на кончиках ее волос.
– Ушей?
– Ну, – она занесла руки над затылком, и оттянула кончики пальцев назад, – когда они пугаются или слышат резкий звук, у них поворачиваются уши, совсем как маленькие локаторы. Что ты там такое увидела? Дай посмотрю.
– Птиц.
– Да?
Она перегнулась через меня и я загородила собой окно, пока виток на моей спине набирал обороты, разрастаясь в большое и неразличимое ничто и нечто. Я подумала о том, что возможно, именно эти птицы и помогают богу рисовать тучки – по крайней мере, у них отлично получалось рисовать их для меня. Следом я подумала о том, есть ли у этих птиц уши-локаторы, и могут ли они слышать наши слова. Но мои слова они слышали превосходно – мне так казалось. Еще мне казалось, будто эти птицы отлично знали набор моих слов, и я даже подумывала спросить их об этом. Ну что, среди них и правда была «клоака»? А про «спички» что скажете? А про «переноску»?
– Покажи мне.
Я отодвинулась. Пусть посмотрит.
– И где твои птицы?
– Что?
– Нет там никаких птиц. Где они?
И вправду. Ничего. Провода быстро качались из стороны в сторону, будто их только что потревожил ветер. Этим мутным и дождливым вечером они выглядели так, будто на них все и качалось: и лестницы, и ретрофутуризм, и все наши слова, сказанные или несказанные друг другу. Они и были теми качелями, на которых качались мои волоски и ее сигареты. А потом на них приходили качаться и наши с ней мертвецы – дедушка и Бим. Я представила, как они вдвоем сидят на этих проводах и играют в шашки, а тех периодически сносит ветром с доски. Птицы их поднимут. Они оберегают их покой. Может, они оберегают их и от нас?
– Наверное, улетели.
Я почувствовала, как нарисованный ими клубок распутывается в единую нить, а та в свою очередь пускается по этой дороге белой дорожной разметкой. Одна из птиц, ранее мной увиденных, приземлилась на лобовое стекло. Я указала на нее пальцем и тогда Ия позволила себе тихонечко шевельнуться – чтобы не испугать ее или она все-таки сама испугалась? – и тогда, почувствовав наш страх, птица вкрадчиво постучала клювом по лобовому стеклу. Ия дернулась и крепко вцепилась в мою футболку. Мне тоже хотелось за себя ухватиться. Мелкая дробь дождя колотила по нашей с ней крыше и сливалась на окна полупрозрачным занавесом. Глядя на идеально ровный поток, в котором плавился лес и очертания ее лица, мне жуть как хотелось его коснуться и на секунду прервать, но вместо этого я зачем-то вглядывалась в ее беспокойное лицо, надеясь увидеть больше, чем просто белый цвет кожи и мокрую челку, некрасиво исказившую ее лоб. Каждый раз, когда я на нее смотрела, мне казалось, что я вот-вот нащупаю это большее, но из раза в раз ошибалась. Это было невозможно увидеть или почувствовать. Об этом было необходимо знать. В тот момент она была похожа на японскую актрису или вроде того. Но роли бы у нее были крайне трагичные – что-то типа того, что нам уже пришлось пережить (слова для справки – «куча лестниц», «чайки», «печаль», «мокрые волосы», «качели», «дождь» – у каждого в голове появилась своя картина, верно?) Что-то вроде игры в ассоциации.
– Почему она не улетает? Эй ты, – Ия постучала по стеклу указательным пальцем.
Птица походила туда-сюда по капоту, поглядывая на нас своими глазками-бусинками сначала одним и только потом вторым – двумя одновременно никто из птиц смотреть не умел. Я рассмеялась.
– Вот кому всегда смотрят в один глаз.
Она натянула улыбку, но та быстро съехала вниз по ее лицу, как с дверей и со стекол скатывалась дождевая вода. Птица напоследок мигнула нам одним глазом и улетела. Но после послышался звук, похожий на чьи-то вежливые постукивания в дверь.
– Слушай, что-то не то.
Я тоже насторожилась. Птица ходила по крыше. И как будто бы не одна. Ия смотрела на меня долго и беспокойно, будто искала в моих глазах ответы – попробуй сначала с вопросами расквитаться. Их шаги знали куда идти. У них определенно была своя цель. На какое-то время они стихли, и тогда она снова расслабила свои плечи, уронив мне на колено увядшую кисть.
– Надо уезжать отсюда. Подай-ка мне сигарету.
Я полезла в бардачок, ощущая себя до предела напряженной – так, будто кожа вмиг стала мала моему скелету, и натягивалась на локтях и коленях каждый раз, стоило мне наклониться или задышать чуть усерднее. Но если переборщить, я рисковала лопнуть и разлететься кишками по стенам. Я достала сигарету и протянула ей. Ия выхватила ее из моих рук и нетерпеливо прикурила спичкой. Это неосторожное движение ее и выдало – руки у нее тоже тряслись. И не потому, что ее скелет вырос из кожи, наоборот. Она сама как-то съежилась и все воровато посматривала по сторонам, не понимая, за какую мысль ей ухватиться первой, и за что ухватиться вообще – за руль, подлокотник или мою руку? Птицы заходили усерднее, и мне стало казаться, что они и по клубку моему топчутся, опутывая его своими шагами. Ну что, машина времени, какой рисунок был на этот раз? Этот, да?
Ее сигарета остановилась всего на мгновение, и птицы припали к окнам, торча своими клювами из просветов, неприкрытых темно-синим велюром. Птичьи глаза были повсюду. Они смотрели то одним, то вторым глазом, и никогда обоими – не умели – вот кому уж точно смотрят только в один глаз. В тот момент я ощущала себя как на школьном концерте, когда еще не начинаешь говорить, и не дай бог забываешь речь, стишок, слова песни, свое имя и все-все, что происходило с тобой до того момента, пока аккуратно не вспоминаешь про сигарету, оставленную где-то на видном месте у себя в комнате, и уже потом – про свои потные подмышки, но только потом, после сигареты, когда на тебя устремлены сотня и более глаз, которые чего-то ждут и чего-то от тебя требуют – стишка или песенки, а может, и признания в сигарете и потных подмышках. В том море глаз плавали мы. Не докурив до конца, она раздавила сигарету пальцами, швырнула ее в окно и с первого раза завела машину – держу пари, та тоже чуть не сдала от страха.
– Сейчас всю машину обосрут.
Она вцепилась в руль, и выжимая сцепление, встретилась взглядом с птицей, севшей на стекло прямо напротив.
– Тебя еще не хватало.
Птицу тут же сшибло дворником и та вспорхнула, приземлившись обратно на крышу. Она выжала газ и отпустила сцепление. И мы покатились, хотела бы сказать я, но, увы, нет – нас, скорее, снесло и так же размазало по мокрой земле, как вместе с дождем по лобовому стеклу размазало песчинки и мелкие травинки с лапок той несчастной птицы – у них, видимо, свой багаж. Машина отбуксовала и с рвением выкатилась на дорогу, захватив всех пернатых пассажиров с собой.
– Ну что, прокатим этих халявщиков с ветерком?
Я засмеялась. Ситуация казалось если не комичной, то уж точно из разряда как это вообще могло произойти?
– Поставь что-нибудь. Пусть хотя бы узнают что такое качественная музыка.
Бардачок оставался открытым и я приняла решение закрыть глаза, чтобы вытянуть первый попавшийся диск – так я часто делала в детстве, когда не могла выбрать носки или еду на завтрак, поэтому, как вы уже наверное могли подумать, я зачастую ходила в разных носках и ела на завтрак пельмени – и вытянула Криса Исаака. Как она и хотела – значит, все пошло как надо, верно? The world was on fire and no one could save me but you. It’s strange what desire will make foolish people do. And I’d never dreamed that I’d knew somebody like you. And I’d never dreamed that I’d need somebody like you. No, I don’t wanna fall in love (This world is only gonna break your heart)[10 -
].
– Думаешь, им понравится?
– А то! Знаешь, я тут вспомнила, что раньше училась в школе с военным уклоном. Нас там и «калаш» собирать учили. И вообще я теперь боец хоть куда.
– Это ты для них говоришь? Я думаю, они тебя не услышат.
Если бы вы знали, как я потом гордилась этой шуткой. Мне казалось, что я уделала всех и разом – себя, ее, этих птиц и всех ваших ретрофутуризмов и слов, прописанных на несуществующих скрижалях. Вот такие были дела. Я не учла одного – наверное, ее они все-таки слышали.
– Да нет же, я серьезно. И дед у меня там же учился. Он по молодости и котов, и птиц стрелял. Раскаивался потом конечно ого-го как! Даже кота завел. А до птиц дело так и не дошло. Но хотел. Попугая, например, говорящего. Кешу какого-нибудь, чтобы матерным словам его научить.
What a wicked thing to say you never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And I don’t wanna fall in love (This world is only gonna break your heart). No I don’t wanna fall in love (This world is only gonna break your heart) With you[11 -
].
– Я вот думаю, не потому ли они нас преследуют?
Я посмотрела на нее и еще мельком – на птицу за ее оттопыренной челкой. Куда-то делось солнце. Я просто не нашла его на небе. Было небо и были птицы, а где-то была старая библиотека с ее полудырами-полузвездами, которые собой закрывали птицы, да уж – тоже мне, в каждой бочке затычки, а где-то все еще была река, и где-то все еще стояли лестницы, ждущие кого-то, кто им предназначен.
– Полчища убитых котят нас тоже, наверное, где-то ждут.
– Юморишь ты сегодня.
– Ну.
Ощущение было странное. Нагнетающее настроение музыки вперемешку с птичьим хором из глаз – не он ли это, не подлинный ли сюрреализм? Я даже подумывала взять другой диск, к примеру, что-нибудь из группы «Кино», но потом передумала – раньше, когда я была ребенком, я не имела права съесть яичницу вместо пельменей, и заменить полосатый носок соответствующей парой к однотонному, так что уж пусть играет Крис Исаак. Правило руки никто не отменял. Рука всегда права, даже если это разные носки, пельмени на завтрак и Крис Исаак в самый неподходящий момент.
– Еще я помню, как ударила мальчика по коленке.
– Рукой?
– Ногой.
Я не смотрела на нее. Я смотрела, как размазывается по стеклу песок – травинки куда-то делись. Все это было похоже на тот же концерт, во время которого забываешь и стих, и песенку, и свое имя, и все-все-все, но на этом не останавливаешься и начинаешь переговариваться с кем-то из-за кулисья, а потом этот кто-то выходит на сцену и встает рядом с тобой. На сцену выносят стол и шашки. И вы заводите беседу, отыгрывая часть спектакля, пока ваш разговор участливо прослушивается всеми теми, чьи глаза мусолят вашу прическу и потные полукруги в области подмышек. Так оно все и было.
– За что?
А глаза наблюдали. Они ловили каждое наше слово.
– За то, что срывал цветы на клумбах моей бабушки. Я помню, как он разревелся и позвал свою. Да уж, жалкое, конечно, было зрелище. Помню, как она с ног до головы вымазала его зеленкой. Интересно, что с ним стало? Бабушка, наверное, уже давным-давно поднялась по лестнице в свой ретрофутуризм, где изо дня в день продолжает намазывать его зеленкой. Ну а с ним то что? И самое главное в этой истории – у кого теперь эта зеленка и кто мажет ему коленки и по сей день, если ее уже нет рядом? Если ему вдруг изменит жена, к кому он пойдет? И кто помажет ему коленки? А потом, может, и сердце?
Мы посмотрели друг на друга. Я не понимала к чему она это сказала, но я понимала, что это, почему-то, должно быть сказано, как если бы сценарий действительно был. Но я совершенно не знала своих реплик. Я их просто не выучила.
– Тебя наказали?
– Если бы. Провели воспитательную беседу. Но я не чувствовала себя виноватой. Моя бабушка, наверное, тоже все поняла. В ее словах было слово «любовь».
На крыше все еще скреблись птицы – наверное, пытались удержаться на поворотах. А те, что не смогли, летели рядом, чтобы не упускать машину из виду. Диск замолчал и мы не сразу это заметили. Вместо того, чтобы заменить его, я пустила его повторно.
– Мои коленки никто и никогда не мазал. Моя болезнь и мое спасение. А знаешь, я ведь тебе неправду тогда сказала.
– Когда это?
– Когда я сказала, что Остап проломил себе голову.
Дождь успокоился. Мы выехали на поворот. Стали видны очертания другого берега и реки, странно похожей на предыдущую. Создавалось впечатление, что мы без конца ехали по кругу. Я по прежнему не знала своих реплик. Я не знала что говорить и какую эмоцию играть. Не знаю, куда мы ехали – наверное, она тоже понятия не имела – но по дороге туда появлялось непреодолимое желание во всем признаться. И не только ей. Я это поняла. Казалось, что в этот миг я была готова понять всех и сразу – ну а птиц, прилепившихся к нашим окнам и крыше, в самую первую очередь.
– В тот день между нами все окончательно изменилось. Тогда он пришел домой в стельку пьяный. Таким мне еще не приходилось его видеть. Остап не давал мне пройти, скручивал руки и всячески пытался обнять. В какой-то момент я поняла, что слетаю с катушек и качусь с горки. Сколько бы он меня не удерживал, этого было не избежать. Я думаю, он и сам тогда все понял, но все равно сжимал меня поперек, больше для видимости, чем для того, чтобы что-то исправить. Как для декора, понимаешь? Как в фильмах. В них всегда есть бесполезные детали, так, чисто для общей картины, чтоб было – вроде того. Так вот, это было оно. Точно тебе говорю. И я не знаю, что это было, но было прям как тогда. Прям как с ее цветами. Я была как губка, напитавшаяся самым мрачным цветом в палитре. К нему, увы, чуть позже добавился красный. И я не сожалею, правда. Я думаю, он меня тоже не винит. Не помню все в деталях, но помню чувство – в висках бьет кровь и в какой-то момент, как мне показалось, даже ухудшилось зрение. Ярость накатила быстро. Перед глазами плавали красные и желтые круги, будто передо мной взрывали петарды. И тогда я схватила пару бутылок, стоящих в ряд у окна, и бросила их одну за одной с балкона. Они бились у меня на глазах. Легче мне не становилось. Он держал меня за локти. На улице кто-то кричал и мельтешил руками, будто просил о помощи. Я тогда думала – да вот же, это же я там стою. Точно-точно. А он все держал меня за локти. В один момент стало до чертиков, понимаешь? – все эти руки, те, что за окном, и те, что сжимали меня. И вместо того, чтобы пустить последнюю бутылку в окно, я разбила ее об его висок. Я не видела как он упал. Я тогда просто ушла, бросив розочку на ковер. Ну а текила, кстати, была не текилой, а анисовой водкой. Вонь от нее была адская. Этот запах я никогда забыть не смогу. Новый ковер, кстати, пропитался ей до нитки. До сих пор эта анисовка в ноздрях стоит. Это была самая настоящая голая ярость. Есть ярость обычная, прикрытая, хоть бы полотенцем или цензурой. А здесь было не то. Здесь была настоящая голая ярость. В такие моменты не соображаешь о том, что можешь убить или оставить на всю жизнь инвалидом. Нифига подобного – ты не думаешь. Ты вообще не думаешь. Это и страшно.
Я посмотрела на ее руки, лежащие по обе стороны на руле. Отчего-то после ее слов она предстала передо мной другим человеком. Были ее руки и тонкие волоски на тех же руках. Был ее запах, ни на что не похожий. Были ее глаза, которые громко моргали, когда одна песня заканчивалась и вдруг становилось ужасно тихо, а потом как ни в чем ни бывало начиналась другая. Все это принадлежало ей. И это все оставалось прежним – по крайней мере, я так подумала. Однако в каждой ее черте теперь сквозило то, чего я прежде о ней не знала.
– И я любила его. Но это больше не мои проблемы. Понимаешь, о чем я? Есть тип людей, которые существуют как придется. Они думают, что они особенные и что их обязательно спасут, знаешь? И что их обязаны спасать, потому что они такие. Ссаные жертвы. В какой-то момент я поняла, черт, я не буду тебя спасать. Мне плевать. Да хоть сдохни. Черт, я даже хочу этого. Вся проблема в том, что люди подразделяются на четыре типа. Первые – те, кто мажут коленки, вторые – те, кому мажут. Третьи мажут коленки сами себе. Ну а четвертые не делают ничего. Вот они и есть самые настоящие психопаты. Первые – это спасательные круги, которые не умеют жить ради себя. Вторые жертвы. Третьи сами по себе. Лучше быть третьими. Всегда. Поверь мне. Он, все-таки, был четвертым типом, втайне желающим, чтобы ему как следует натерли коленки. Так понятно? Недоделанная жертва, прячущаяся под маской психопата.
– Зачем про текилу то было врать?
– Казалось, что так убедительнее.
– Вовсе нет.
– Да?
– Ага. Анисовка в тему.
– Ладно.
– Хочешь, чтобы я тоже призналась?
Папироса торчала у меня из кармана полицейским стволом. Она, наверное, все это ни раз уже видела. Так что лучше достать его и поскорее во всем признаться. Ну а ей изобразить удивление. Так?
– Я не всегда тебя понимаю.
– Я знаю.
– Ладно.
И это было все равно что годами мучиться, нося с собой огромный ствол, тщательно скрывать, прикрывая его сумкой и пиджаком, а потом от кого-нибудь услышать – а ты что, правда думаешь, что его никто не видит? Я-то думала… Ну ладно. Самое время выложить его на стол. Ничего, если он составит нам компанию? Теперь нас здесь стало пятеро. Я, калашников, она, птицы и Остап. Мне хотелось чтобы он ушел. Но в этом я могла признаться только здесь. Самой себе мне признаваться не хотелось. Интересно, а можно в чем-то признаться бумаге, не признаваясь в этом себе? Бумага будет хранить секреты? А как потом стереть себе память?
– И как долго ты это знаешь?