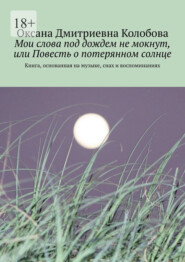скачать книгу бесплатно
– А она только это и делала.
– Да, ты права. Иногда так и вправду кажется, будто бы цель всей твоей жизни – вырасти из детских штанов. А там уже как получится – куда жизнь швырнет. А она только так швыряет.
– А потом можно и лестницу в небо искать.
– Да. Следующий пункт сразу после штанов.
Я перекрутила ее мизинец в своих руках. Интересно, я из своих выросла? Наверное, я была скорее из тех, кто давно из них вырос, но все-равно таскал их с собой повсюду в сумке или рюкзаке, так, чтобы близко к сердцу, так, чтобы не забывать. Понимаете? А забывать очень не хочется. Вот и ходишь, неприкаянная, с этим мешком, а в нем – все, что принадлежало тебе тогда – штаны и кучка воспоминаний. Воспоминания можно оставить себе, а штаны придется отдать кому-то другому. Уже неприлично, понимаете? Думаю, что вы понимаете. Но я все-равно буду носить их, пока они не станут настолько маленькими, что будут застревать на коленях или рваться на жопе. (Вопрос на засыпку: это я расту, или они уменьшаются, уходя от меня куда-то вдаль?)
– Иногда в расставании со штанами может пройти вся жизнь.
– Ты так думаешь?
– Я думаю, что мне столько потребуется.
– А ты не думала, что в этом весь смысл?
– Не знаю. Слишком много вокруг этих смыслов. Можно утонуть. В конце концов, захлебнуться. А по сути – как среди них найти свой?
Ия дернула мизинцем, и это было как пожать плечами, мол, не знаю.
– Да ладно, пофиг, че ты.
– Да ниче.
– А ты бы правда меня с лестницы пустила?
Я посмотрела на нее. Мизинец едва дернулся. Дерись, дерись и больше не мирись.
– Если бы ты попросила.
– Ясно.
– Это плохо?
– Это хорошо. Ты настоящий друг.
На потолке стало на пару-тройку дыр больше – видно, птицы уставали слушать наш треп. Я попыталась посчитать их сызнова, но каждый раз сбивалась. Звезды загорались тут и сразу же гасли там. Их было не удержать. Интересно, а библиотека ведет отчет? – что-то вроде переписи душ? Если да, то она точно знает, сколько звезд загорелось и померкло в эту секунду. А когда мы уйдем, она и нас тоже вычеркнет? Похоже на то.
– А ты предупредишь заранее?
– Думаешь, я могу предугадать свое желание упасть с лестницы?
– Не знаю. А ты думаешь, его тоже кто-то толкнул?
– Ничего не думаю. Может, нет никакой лестницы в небо. Упал и упал. Делов то.
– Я думаю, что есть.
– Это точно?
– Да.
4
Тридцать шесть и тридцать шесть
Небо окрасилось в ярко-красный. Солнце было как раскаленный уголек. Я визуально поместила его в печку, закрыла заслонку и села на лавку. Скоро придет дедушка. Сама я помешивать боялась – вдруг обожгусь? А он придет и перекатит это солнце туда-сюда, пока то не воспламенеет. Тогда его можно вешать на небо, нет, немного левее, вот так, и немного ниже, чтобы деревья закрывали. А может быть, это солнце и на небе кто-то туда-сюда, может, если бог помешает – загорится, забудет или уснет – нет. И облака ведь когда есть, а когда нет: когда кудрявые и во множестве, а когда плотные и всего по нескольку штук. Может, это бог их на небе рисует? Может, когда ему хорошо, он рисует облачка красивыми и воздушными, а когда ему плохо, зачеркивает лист к чертям? Так и получаются тучки? Ручка штрихует, размазывая себя по небу, и пару раз дырявит холст – из этих дыр потом заморосит дождик. Больше силы – больше дыр, а значит, больше дождя. Я подумала, ничего себе. Я сложила руки и положила на них подбородок, глядя на нее снизу вверх. Она всегда изобретала новые позы, аргументируя это тем, что телу нужно давать чувствовать себя по-новому. Откинув сидение чуть назад, она лежала на нем задом наперед, для лучшей наглядности – локти смотрят в заднее лобовое стекло, пятки – в педали. Я лежала и думала – что бы было, если бы она случайно нажала на газ? Нас бы тут же понесло к воде, и не успели бы мы опомнится, как тут же оказались на дне реки.
– Ты чего так старательно обдумываешь?
– Ничего.
– Уж прям ничего?
– Ага.
Пахло сигаретами и старой кожей. Мне нравился этот запах. Мне нравилось, что она сидела задом наперед. Это помогало моему телу чувствовать себя по-новому.
– На, глянь-ка.
Зажав сигарету зубами, она развернула книгу и сунула мне ее под нос. Я всмотрелась.
– И?
Ия махнула руками, мол, не могу сказать. Видимо хотела, чтобы я сама догадалась.
– Это что?
– Не видишь?
Я всмотрелась еще раз.
– Нет.
– Маленький паучок. Смотри, лапки поджал – наверное, перебежать хотел, а его раз и захлопнули. Почти гербарий.
Он был крошечный – в тетрадную клеточку не убрался бы точно. Его можно было с легкостью перепутать со случайной кляксой или каким-нибудь причудливым печатным знаком – настолько выцвели и стерлись буквы. Я потрогала его ногтем. Его лапка чуть отклонилась от курса, и теперь его тельце было похоже на пятиконечную звезду. Пятым концом была его голова. В эту секунду мне захотелось сделать что-нибудь подобное – может, высунуться сейчас из окна и подобрать какую-нибудь букашку, чтобы положить ее меж листов и написать где-нибудь рядом: «После библиотеки. У реки».
– Эй! Испортишь.
Она забрала книгу себе и отвернулась.
– Так забавно.
– Что?
– Да ничего.
– Говори.
– То, что он случайно в этой книге оказался. И так же случайно остался в истории. Может быть, на века.
– Все равно что попасть на фото какой-нибудь знаменитости, идя в магазин за хлебом.
Я хохотнула.
– Да, наверное. А кроме пауков там ничего нет?
– Только пометки какие-то, но я не уверена, что его рукой. Дедушка редко обводил слова и так же редко их подчеркивал. Этого он не любил. Он любил зачеркивать некрасивые или неправильные слова и писать над ними красивые и правильные. Дедушка любил карандашные заметки вроде «это ведет к тому, что она…”, «т. е…”, «возвращаясь к…”, «вспоминается…» и т. д. И «и т.д.» он тоже писал, кстати говоря.
– Ты думаешь, дедушка тебе правда что-то оставил?
– У него было много секретов. С ними он ни с кем не делился. А мне обещал, когда вырасту. Кстати, смотри что здесь есть.
Она выкинула сигарету в окно, зачем-то вывернулась наизнанку и потянулась рукой к заднему карману своего сиденья. В них, оказывается, тоже что-то лежало. Я их все это время даже не замечала – никогда не сидела сзади.
– «Смена». Здоровская штука.
В ее руках оказался фотоаппарат. Такие я уже где-то видела, но не могла вспомнить где. Иногда, знаете, вспоминается что-то уже замыленное, давным-давно позабытое, но все равно вспоминается, берясь незнамо откуда. Непонятно, сам ты это придумал или где-то увидел, а может, оно явилось тебе во сне? Непонятно, откуда у него растут ноги – о каких ногах речь, если и рук то не видно, не вспомнить? Подобное я испытывала с садиковским мылом и полотенцами, вафельными такими, знаете, накрахмаленными – они всегда красиво висели на крючках, а мы некрасиво бросали их где придется. Когда на мыльный и затопленный умывальник, когда на пол. Больше из обстановки ничего не вспомнить, только черствые полотенца и пахучее мыло, которым некоторым хулиганам намыливали рот и уши. Иногда этот запах резко дает мне в ноздри, вылавливая меня то в примерочной, то в очереди за жвачкой или где-нибудь в толпе, что было еще хуже – тогда найти источник аромата становилось почти невозможно. Я не могу его описать – я его не помню. Но если услышу, то обязательно узнаю. Наверное, это то же самое что забыть человека и не суметь визуализировать его в своей голове, а потом испугаться и обомлеть, увидев те черты в чужом лице, следом пережить момент и не вспомнить этих черт снова. Спрашивается, зачем это все было?
– Хочешь подержать? Он о-о-о-очень старый, и наверное, очень ценный. Кусков за пятьдесят продашь.
Она доверила фотоаппарат моим рукам, отдав его с преувеличенной нежностью – как могла, наверное – а сама полезла в карман. Пока я и так и сяк примерялась к нему то глазом, то ладонями, пытаясь понять, как он функционирует, и самое главное, как именно держал его в руках ее дедушка, она что-то усердно искала. В ту минуту мне казалось, что стоит мне сфотографировать окно, траву, или ее, сидящую рядом со мной, а потом проявить пленку – то я увижу мир его глазами. Мне бы этого очень хотелось. Мне бы очень хотелось побывать в его теле и присвоить себе его слова – «записки», «понимание», «разбитое окно» и в особенности «февраль». Интересно, это она мне это обожание внушила, или я хотела получить его частичку применимо к своей персоне? Да и фиг с ним. Я посмотрела в окошечко. Оно показало мне кусочек затонированного окна, дорожный крестик и ее растрепанную макушку. Из неё торчали намагниченные волоски, качающиеся туда-сюда на своих невидимых качелях. На тех самых. Я была рада, что не забыла про них; они были рады, что не остались плоским воспоминанием – увы, они стали воспоминанием выпуклым. Я снова приложила глаз – помещенные в прямоугольник, угловатое плечо и катушка пленки, лежащая у нее на ладони, были красновато-коричневого оттенка. Я подумала – ее дед, должно быть, ни раз наблюдал ту же картинку.
– Видала?
Я навела окошко на ее губы. Улыбка сменилась раздражением и протянутой рукой. Та приблизилась к моему лицу и отобрала фотоаппарат. Все, теперь я была собой, со своим багажом слов и вопросов. Я подумала: а что, если этот багаж где-то оставить? – случайно или с таковой видимостью? Было ли бы мне жаль? Нет. Но мне было жаль, что в том фотоаппарате не оказалось пленки. Было жаль, что я не оставила ее улыбку гербарием и не убрала куда-нибудь в кошелек или в потайной кармашек пиджака. Было жаль, что Бим ушел от меня слишком рано, и что нет теперь ни его мух, ни той самой сумки-переноски. Я подумала – у ее деда этих гербариев, наверное, и в кошельке, и в карманах было полным полно. Невольно я представила его, седого и с палкой в руке, или как там, с посохом – так они у пастухов называются? – представила, как он стоит и молча наблюдает за тем, как овца сжирает все его памятные гербарии – ее улыбку, смех, зелень травы и яркость солнца, прелесть и вдохновение музыки. Все-все. Почему ее с ним нет? А я бы к нему ее отпустила? Мой багаж все пополнялся и пополнялся. Было не жаль его где-то оставить или кому-то подарить. Было жаль штанов, в которые я уже не влезала, а все таскала с собой как дура, в надежде на что-то – в надежде на что? – и оставляя этот багаж где-нибудь в магазине или на дороге, я бы сперва их достала, продолжая рассчитывать на то, что когда-то в них влезу.
– Ты чего молчишь? Не пробовала ни разу?
Я мотнула головой. Она наклонила свою, мол, ну ничего, сейчас догоним.
– Пленку вставляем внутрь. Вот так, усекла? На кнопочку надо нажать и она сама закатывается, видишь? Теперь можно снимать. Правда тут всего тридцать шесть кадров.
– Тридцать шесть?
– Ага.
– Считай, тридцать шесть фоток. Не так много, да? Дедушка раньше очень много фотографировал. Могу тебе показать пару фотографий. Потом.
Она перевернулась на спину, продолжая вертеть в руках фотоаппарат. Я удивилась – в ее руках он выглядел совершенно не тяжелым, как если бы та тяжесть впитывалась и нейтрализовалась ее руками.
– У меня есть его пленка. Бабушка подарила мне ее на день рождения.
– Правда?
Я приподнялась.
– Ага. Я ее еще не проявляла.
– А собираешься?
– Когда-нибудь.
– Не думаешь, что прояви ты их, вопросов в твоей голове стало бы меньше?
– Если честно, то нет.
Может, все это от пристрастия к вопросам? – к тому, чтобы плодить их и намеренно не искать ответов? А я этим тоже страдала?
– Я бы хотела проявить их в какой-то особенный день, если ты понимаешь. Может перед смертью или типа того, что бы я такая о, теперь я понимаю, и потом сразу умерла. Чтобы новых вопросов не появилось. Чтобы не успели, знаешь… И чтобы я умерла с видимостью пустого листа.
– Как думаешь, если бы ты выписала все вопросы из своей головы на бумажке, то сколько бы их там было? Если бы была возможность их сосчитать.
– Бумаги всегда будет мало. Любого блокнота тоже. Поэтому, я считаю, уместнее будет вопрос: сколько таких блокнотов мне понадобится?
– И сколько?
– Фиг знает. Может, целый магазин. Не хочешь выйти поснимать?
– А с лестницами у нас какой план?
– Я думаю, нам надо найти ту, по которой взбирался мой дедушка.
– А кто-нибудь знает, что это была за лестница?
Ия промолчала и я не поняла, что она имела ввиду – да или все-таки нет. А может, уместнее было бы все-таки «не знаю»? Она взяла фотоаппарат и сигареты. Я взяла себя в руки, а потом все свои вопросы в охапку. Может, самое время оставить их где-нибудь под кустом или утопить в реке? Дорожка хрустела мелким гравием. Солнце катилось от нас куда-то туда, где нас нет. И где нет наших вопросов и слов. Где, возможно, только лестницы и что-нибудь еще – шашки, вино и овцы? Наверное. Небо стало нежнее, как будто перед дождем. Нам стоит его ждать? Или нет? И смогут ли эти вопросы оставить меня в покое?
– А как эти снимки потом проявляют?
– Что, даже в фильмах не видела?
Гравий шуршал под ее подошвами. Она наткнулась на мое молчание и обошла его стороной. Потом дорожка гравия перешла в песок и наши шаги стали тише и гульче.
– Ну ты даешь, тетя. Ну короче, сейчас таких мест наверное нет, но раньше, когда, к примеру, мой дедушка был еще молод, были специальные студии. Внутри них были красные стены. И все красное, воображаешь? Может, какие-то лампы были или типа того. Не знаю. Но сейчас можно проявлять их с зашторенными окнами, накрайняк – под одеялом. Ванная тоже сойдет.
– А почему именно так?
– Почему именно красный?
– Ага.
– Пленка не проявится. Интенсивность света при прохождении через красный светофильтр сильно уменьшается по всем частотам спектра. Оставшийся свет не содержит инфракрасного, который в первую очередь засвечивает изображение.
– А, ясно.
– Но любую современную пленку проявляют в абсолютной темноте.