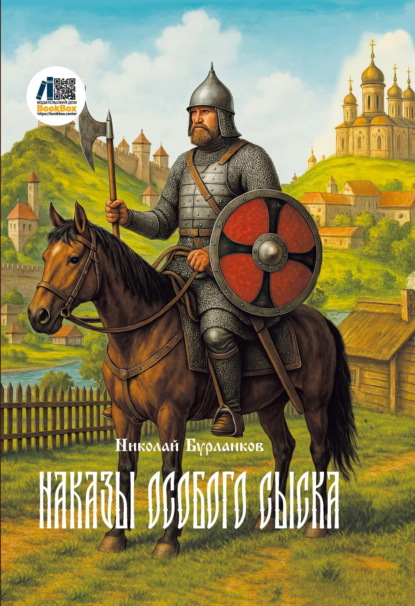
Полная версия:
Наказы Особого сыска
– Так можно все ковры, всю постель обкурить дымом, – советовал Матвей, которому не улыбалось еще одну ночь провести в обществе клопов.
– Пробовали, – извиняющимся голосом отвечал постельничий. – На пару дней они пропадали, но потом набегали снова. Может, в печи они живут или в полу, но уж все, казалось бы, простукивали и промывали. Лезут откуда-то, проклятые…
– Вы хотя бы на эти пару дней их изгоните, мне больше не надо, – попросил Матвей.
– Как скажешь, боярин, – поклонился слуга, протягивая рушник.
Воевода ждал своих помощников к завтраку.
– Есть успехи? – спросил он Хилкова.
– Пока маловато, – Иван покосился на Матвея.
– Стремянный не подъехал? – на всякий случай уточнил Матвей.
– Люди говорят, видели его в городе. Подойдет, наверное, сегодня. Так на что он вам?
Хилков задумался, говорить или нет, как вошедший стольник объявил:
– Дворянин Дмитрий Потапов просит войти.
– Легок на помине, – покачал головой Федор Васильевич. – Зови.
В горницу вошел невысокий коренастый мужчина лет под сорок, с небольшой, коротко постриженной головой рыжеватого цвета; опушенную шапку он держал в руках. Одет он был в легкую холщовую сряду, подпоясанную простой веревкой: казалось, его поймали где-то на пути на рынок и попросили срочно зайти к воеводе.
– Ну вот вам дворянин Дмитрий Потапов, – указал на вошедшего хозяин. – Можете с ним поговорить.
Хилков и Матвей встали из-за стола одновременно, заходя к вошедшему с разных сторон.
– Дворянин Дмитрий Потапов? – на всякий случай еще раз уточнил Хилков. – Стремянный покойного воеводы Головина?
– Да, я. – Стремянный сжал шапку обеими руками, подняв локти, точно хотел защититься. – А что?
– Вопросы у нас к тебе имеются. Ты ведь отвозил тело хозяина?
– Да.
– И ты нашел его утром?
– Да, я, все верно. В чем дело-то?
– Ну пойдем поговорим. Мы ненадолго, – Хилков на всякий случай поклонился хозяину вполоборота и коснулся локтя стремянного.
С совершенно спокойным видом тот повернулся к выходу – и вдруг стремглав бросился бежать.
– За ним! – прошипел Хилков и сам устремился в погоню.
Стремянный знал дом явно куда лучше своих преследователей. Матвей сбился уже на третьем повороте. Иван вообще не замечал, куда они бегут, глядя только на тень впереди.
Внезапно Матвей замер: стремянный влетел в его – вернее, воеводскую – спальню и захлопнул дверь. Оба преследователя вломились за ним следом, но в изложне никого не было.
Хилков на всякий случай подошел к окну, выглянул туда – на дворе спокойно бродили слуги.
Матвей нырнул под кровать, но, кроме слоя пыли, там тоже ничего не обнаружил.
Озаренный внезапной догадкой, Хилков шагнул к стене, на которой висел ковер, и сдернул его. За ковром обнаружилась небольшая дверца.
Многозначительно посмотрев на спутника, Иван толкнул дверцу и попал в темный переход.
– Как бы он нас там чем-нибудь не двинул по голове, как своего хозяина, – заметил Иван. – Сходи, возьми света.
– Упустим, – возразил Матвей. – Пошли, я первым пойду.
Переход тянулся куда-то вбок и вниз, видимо опоясывая хоромы воеводы. Беглеца давно не было ни видно, ни слышно.
– Кажется, мы уже где-то в подвале, – произнес Хилков позади. Голос его гулко отдался по переходам.
– Пора вылезать, – Матвей поднял руку и нащупал лаз.
Откинув крышку, он зажмурился от ударившего в глаза яркого света. Они вылезли где-то на заднем дворе хором.
– Плохо вы бегаете, – их уже ждал Федор Васильевич. – Ушел бы беглец, кабы не мои люди.
Рядом стоял Дмитрий Потапов, хмурый, со связанными руками, и на всякий случай двое слуг воеводы держали его за плечи.
– Можете допрашивать его, сколько потребуется.
По знаку воеводы пленного потащили в писарскую избу.
Глава 3
Беседа об устроении государства
Стремянный сидел напротив них на лавке, со связанными руками, и равнодушно смотрел в маленькое окошко.
Писарь с готовностью устроился за столом, с пером в руке, и преданно смотрел на Хилкова.
Матвей старался на пленного не смотреть. Что-то смущало его, хотя то, что говорил Хилков, было разумно и вполне обоснованно.
– Ты, стало быть, и про тайный ход знаешь, – перечислял Хилков, – и к хозяину был вхож во всякое время. И тело его ты нашел. А потом слухи распустил, будто его мужики на охоте подстерегли.
– Не распускал я слухов! – повернулся в его сторону Дмитрий Потапов. – Я понимаю, к чему вы клоните, – он с неприязнью перевел взгляд с Хилкова на Матвея, потом обратно. – Да только чувствовал бы за собой вину – не пришел бы к вам.
– А чего ж убегал?
– Так ведь вы на меня всё свалить решили!
– Я еще ни слова не сказал о твоей вине, когда ты в бега бросился, – возразил Иван. – Стало быть, либо сам виноват, либо скрываешь что-то. Коли виноват – так я все равно докопаюсь, и получишь ты наказание, какое заслуживаешь. А коли не виноват – так не хочешь помочь, и за то можешь и плетей вкусить!
– Я дворянин, – возразил Потапов. – Дворян плетьми бить не велено.
– При царе Иване и бояр плетьми наказывали, – напомнил Хилков. – А не хочешь отведать плетей, так расскажи, почему бежал, что знаешь и чего скрываешь.
Потапов угрюмо на него посмотрел:
– Коли совесть тебе позволит бить невинного человека, так можешь и под плеть меня ставить, а говорить я тебе ничего не буду.
Хилков в гневе вскочил, но все-таки удержал себя, спокойно сказал:
– Ну раз ты так, то пока посидишь в порубе. А там поглядим.
Дмитрий ответил взглядом, в котором была не то мольба, не то угроза:
– Не лез бы ты сюда, боярин.
– Это почему? – насторожился Хилков.
– Да потому. Пока не знаешь, в чем дело, так и спрос не с тебя. А коли знаешь, куда лезешь, да что будет – стало быть, тебе и отвечать. Оно всегда так. Еще и в Писании сказано…
– Я знаю, что сказано в Писании, – оборвал стремянного Иван и поманил Матвея за собой.
Двое слуг воеводы вошли в писарскую избу и вывели из нее Потапова.
– А ты подумай, прежде чем лезть дальше! – напутствовал Хилкова стремянный.
Тот проводил его глазами, пока пленного вели до поруба.
– Как думаешь, просто так стращает или правда тут дело нечисто? – спросил Иван Матвея, больше чтобы просто спросить, чем чтобы услышать ответ.
– Он ведь из местных, – отвечал Матвей, подумав. – Может, и в самом деле знает что-то такое, о чем нам лучше не знать?
– Там вас девица дожидается, – обратился к Ивану один из воеводиных слуг.
– Какая девица? – приосанился Иван.
– Да из простых какая-то. В платке.
– Пойдем поглядим, – он махнул Матвею следовать за собой.
У ворот стояла совсем юная девица, в простом наряде, в косынке, прикрывавшей голову, но с длинной толстой косой, падающей на плечо.
– Мне сказали, что отца схватили? – спросила она, переводя взгляд с Матвея на Ивана.
– А ты кто будешь? – уточнил Хилков, хотя уже догадался.
– Я дочь Дмитрия Потапова, Настасья.
И Матвей, и Иван невольно одернули кафтаны, поправили кушаки, шапки, Хилков еще и саблю зачем-то передвинул ближе к руке.
– Что тебя к нам привело? – спросил он.
– Отец уже второй месяц сам не свой. То увез нас с матерью в наше имение под Клушиным. То вдруг вернул обратно в Вязьму. Сегодня пошел к воеводе – точно на казнь: осунувшийся, бледный, с утра в церкви всю службу отстоял, на исповедь ходил. Мать и говорит: «Точно к смерти готовится».
– Что нам на солнцепеке стоять, давай мы тебя до дому проводим, – предложил Хилков.
– Пойдемте, – согласилась Настя.
– Ну, продолжай. Как ты думаешь, с чего он так?
– Да я не знаю, – девушка по очереди взглянула на обоих своих провожатых, прижав руки к груди. – Правда не знаю. Как раз как убили старого воеводу, вскоре после этого отец и начал места себе не находить. Все ездил куда-то, дома почти не бывал. Заговариваться стал. Один раз я зашла, а он сам с собой разговаривает. Потом вскочил, бросился из дому и уехал тут же.
Хилков быстро глянул на Матвея и вновь перевел внимательный взгляд на девушку. Та шла, глядя себе под ноги.
– А когда воеводу убили, вы где жили?
– Мы тогда в городе были, – охотно отвечала Настя.
– Ну и что говорили тогда? Вы ведь по рынкам, по улицам ходили, слышали, наверное, что народ судачит?
– Так то и говорили, что все знают: что, мол, разбойники его в лесу подстерегли, из беглых мужиков.
– А отец не рассказывал, как там на самом деле было?
– Нет. Он вообще о том говорить не позволял. На следующий день уже велел собираться и отправил нас в Клушино, а сам потом с телом воеводы поехал.
Они от острога дошли уже до окраины. Улица бежала вдоль берега реки, уставленная невысокими добротными домами.
– Ну вот тут наш дом, – она указала на старые покосившиеся хоромы с островерхой крышей и коньком наверху и резными наличниками на окнах. Когда-то дом был, наверное, очень богатым, но давно не чиненым. – Зайдете?
– Не сейчас. – Хилков за спиной девушки дернул Матвея за рукав, когда тот уже собирался согласиться на предложение Насти. – Но мы вас непременно навестим.
Настя помолчала, стоя у калитки.
– Вы ведь поможете отцу? – она с надеждой обернулась к своим провожатым.
– Всем, чем сможем, – заверил ее Хилков.
На обратном пути Иван был задумчив.
– Ничего я не понимаю, – признался он наконец. – Одно понимаю: отец ее знает куда больше, чем готов рассказать.
– Думаешь, не он убил?
– Думаю, нет. Но что-то он об этом деле знает, и знает такое, что я не удивлюсь, если завтра он явится с повинной. Только в повинную эту я ни на грош не поверю.
– Почему?
– Ты слышал, что Настя рассказывала? Он весь переменился, но после убийства воеводы. Похоже, ему сказали – те, кто воеводу убил – что-нибудь вроде «следующим будешь ты». А то и еще хуже: «твоя дочь». Вот он и задергался. Увез семью. Видимо, его и там нашли – он сюда вернулся и пошел к воеводе просить управы. Но, кажется, ему снова намекнули, что управы он не найдет. Вот он и не знает, сознаться ему или нет.
– Тогда, может, его семью в острог перевести?
– А почем мы знаем, что убийца не в остроге? Вдруг это конюх? Или постельничий?
– Да ты что? – махнул рукой Матвей. – Этот добрый старик – головной разбойник?
– Всяко бывает… Хотя ты прав, если воеводе голову проломили, тут сила нужна немалая. Но конюх вполне себе парень неслабый, а есть еще и кузнец, и кто-нибудь из слуг… В общем, одна сейчас у нас задача: понять, кто это, раньше, чем они поймут, что мы их нашли.
Матвей поразился глубине мысли товарища, а вслух предложил еще раз поговорить с Дмитрием.
– Может, с ним договориться? Пообещаем защиту ему и его семье, а потом устроим ему как бы побег, он нас на убийц и выведет, коли их знает. Или они его найдут.
– Вот именно – как бы они не нашли его раньше нас, – возразил Хилков. – Но поговорить с ним стоит. Только не в писарской избе. Где бы найти место поукромнее?
– Тогда только в лесу, – заметил Матвей.
Хилков посмотрел на Матвея с сомнением, пытаясь понять, шутит тот или нет, и неодобрительно покачал головой.
В итоге Хилков попытался поговорить со стремянным в порубе, где тот сидел, но Дмитрий говорить все так же наотрез отказался.
– Да ты пойми, – вещал Иван почти умоляюще, – ежели ты не скажешь нам, мы ведь и помочь тебе не сможем!
– А если скажу – сможете? – грустно отозвался Потапов. – Вам-то что, вы приехали и уехали, а нам тут жить еще. Не мне – так моей семье. А вы поступайте как знаете. – Он посмотрел на Хилкова пристально. – Вот что, боярин. Пиши давай. Я убил. Я к нему утром зашел, он еще спал, и голову ему проломил. Так и пиши. А теперь вези меня в Разбойный приказ. Моя вина, я и отвечу!
– Ну и что мне с ним делать? – Хилков обернулся к Матвею за поддержкой. – Я ведь тебе говорил? – Он вновь посмотрел на стремянного. – Почто ты себя оговариваешь? Ведь ты знаешь, кто виноват? Так почему молчишь? В Разбойный приказ его вести нужно, а не тебя, – а ты его выгораживаешь. И кому лучше-то будет? Он от наказания уйдет, невиновного накажут – и где после этого справедливость? А про царских людей будут говорить, что они только и знают, что хватать первого попавшегося, лишь бы страху нагнать. И кому это надо? Убийца твой силу получит, а правда опять в загоне окажется.
– Да что мне ваша правда! – горестно воскликнул Потапов и сел на солому в углу поруба.
Матвей потянул Хилкова прочь:
– Пойдем. От него ты все равно ничего не добьешься. Надо с другой стороны зайти, – закончил он уже, когда за ними закрылась дверь.
– И как будем заходить? – спросил Хилков.
– Давай думать. Кто мог стремянного так запугать, что он и слово сказать боится? Думаешь, разбойники? Так от разбойников как раз воевода и мог бы защитить. А стало быть…
– А стало быть, кто-то из знатных? – в голосе Хилкова на миг проскользнул ужас, а потом он снова распрямился: – Так это же замечательно! Это ж как раз наше с тобой назначение. Разве не должны мы чинить сыск всякому утеснению от бояр своим людям?
– Кому-то из местных бояр воевода старый поперек дороги встал, – продолжал рассуждать Матвей. – Вот и убили воеводу. Может, не сам боярин – но его люди. Вот только кто?
– А это мы через Волынского выясним. Как раз он всех местных бояр собирает.
Большинство из обещанных воеводой гостей объявились уже этим вечером. Многие бояре имели свои дома в городе, куда приезжали по торговым или военным надобностям, и поспешили наведаться к воеводе, едва получили от него приглашение.
Воевода встречал гостей на крыльце. Ради дорогих гостей он, несмотря на жаркое время года, нарядился в белый, шитый золотом, дорогой кафтан, в высокую соболью шапку, сафьяновые сапоги, был при сабле в золоченых ножнах. После приветствия он приглашал всех на обед.
Тут были четверо больших бояр, чьи вотчины располагались прямо возле Вязьмы – все они возводили свои рода к древним князьям радимичей, обитавших некогда в этих краях. Были двое из менее родовитых, но чьи вотчины появились сравнительно недавно, при царе Иване, для укрепления власти Москвы в этих краях. Волынский провел немало времени, размышляя, кого где усадить, дабы никому ущемления не было, но в итоге счел, что московским боярам не зазорно будет сидеть вместе с Хилковым и Матвеем, а местных посадил возле себя.
На дальнем конце стола разместились еще пятеро дворян и детей боярских.
Угождая хозяину, Хилков согласился сесть напротив Матвея, хотя это сильно мешало ему рассуждать. Зато Матвей мог пристально разглядывать гостей, пытаясь угадать, кто же мог запугать стремянного.
Дворян на дальнем конце стола он отмел сразу – мелкие сошки, сами чином не выше Дмитрия, от них бы он прятаться не стал. Самыми подозрительными ему казались московские, но с этим плохо вязались слова стремянного, что «нам тут еще жить». Хотя… Кто знает, как себя насельники повели? Но у кого-то из них могли быть старые счеты с воеводой – еще в Москве.
Матвею тоже не хватало рядом поддержки Ивана, который, казалось, всегда все знал, и он понемногу начал принимать участие в застольной беседе.
Иван уже давно вовсю вел доверительные разговоры с обоими своими соседями, которым по знаку Хилкова стольник то и дело подливал вина. Слева от Хилкова сидел местный, вяземский боярин, седоусый и дородный Никифор Трофимович Долгин. Справа был московский, молодой – немного старше самого Хилкова – представитель древнего рода Вельяминовых, но какой-то боковой их ветки. Разговор неожиданно перешел на Матвея, Хилков стал рассказывать о своем помощнике.
– Так ты правда был в монастыре Святой Троицы? – искренне удивился Никифор Трофимович.
Матвей, который был там примерно лет в семь – мать увезла его из имения подальше от шаек лихих людей, шастающих в округе, – мало что помнил. Родился он как раз в год, когда объявился Самозванец, и все его детство было наполнено суетой, бегством, поездками, они где-то прятались, от кого-то бежали… Повзрослев, он разъяснил для себя многое, творившееся тогда. Что удивительно, ему тогда не казалось это чем-то страшным – скорее было любопытно и увлекательно до жути, как страшно, но любопытно спускаться в темный подвал или нырять в холодную реку.
Монастырь Святой Троицы он помнил плохо, осталась в памяти только оглушительная пушечная пальба, когда к монастырю подошли отряды Лисовского и Сапеги. В стенах было множество народу, собравшегося со всех окрестных сел. Помнил еще пожары по ночам, крики и звон оружия.
– Был, – ответил он просто. – Но мало что помню.
Однако само посещение святого места словно бы и на Матвея наложило отпечаток святости, и на него стали смотреть с уважением даже его ближайшие соседи.
– Преподобный Сергий, – наставительно говорил крупный дородный боярин с окладистой бородой, сидевший по правую руку воеводы, – был не только святым. Можно сказать, он есть истинный создатель всея Руси, ибо именно он возвел веру православную на столь высокую ступень, он основал монастырское житие, а только вера и монастыри и удержали землю нашу в недавнюю пору лихолетья.
– Не скажи, Василий Семенович, – возразил ему второй боярин, сидевший по левую руку воеводы – невысокий, но тоже широкоплечий, одетый с не меньшим изыском, возрастом примерно одним с первым. – Земля наша спасена была Земством, а Земские соборы, как и само Земство, созданы были царем Иваном Васильевичем. Так что при всем моем уважении к преподобному Сергию, я бы именно покойного Ивана Васильевича, а не Сергия, посчитал бы создателем нашего государства.
– Странные вещи ты говоришь, Семен Васильевич, – тут же бросился в спор первый. – Да, Земство создано было в царствование Ивана, – он даже не удосужился прибавить отчество к имени царя, что показывало не очень уважительное отношение боярина к покойному правителю, – но по чьему желанию? Стоглавый собор – вот кто руководил всеми деяниями царя, и, пока царь слушал своих духовных наставников, все шло хорошо. А потом что творилось, оно и привело к разброду, и если бы не мудрое правление сына царя, Федора, то преемник дел Ивана, Бориска, все бы по миру пустил. Оно почти так и случилось. А Гермоген преподобный, даже сидя в застенках у поляков и умирая от голода, призывал народ держаться веры православной и не сдаваться ляхам. Так кто больше сделал для государства – царь Иван, чуть было его не разрушивший со своими присными, или Сергий, чей монастырь дал отпор ляхам?
– А кто это? – тихо спросил Матвей у своего соседа слева. – Родичи, что ли? И имена у них почти одинаковые.
– Это виднейшие бояре нашей земли, – так же тихо отвечал сосед. – Василий Семенович Ряполовский и Семен Васильевич Гудовинский. Я потом, после обеда, много чего о них рассказать могу, а сейчас неудобно.
Между тем спор меж виднейшими боярами разгорался.
– Что еще объединяет землю? Только единая вера, единое понимание, что есть добро – а что зло, к чему следует стремиться – а чего следует избегать. Что делает царь? Он всего лишь следит за исполнением этого. И уж не на царской власти держится страна. Вон без царя сколько были – однако ж уцелели! – гремел Василий Семенович Ряполовский.
– Но дальше без царя жить было нельзя, – возразил Гудовинский. – В любом государстве главное – чтобы каждый исполнял свой долг, занимаясь своим делом. А кто проследит за этим? Кто принудит ратных людей воевать, крестьян – работать?
– Верно, – усмехнулся в бороду Ряполовский. – Вопрос лишь в том, кто будет решать, в чем чей долг состоит. Кто должен делать это, а кто – то? И как быть, если кто-то свой долг не исполняет? Коли бежало войско с воеводой, так и крестьянам приходится за топоры браться, как случилось в лихолетье. А коли крестьяне землю забросили – кто за них пахать будет? И ежели не понимают они, что есть Божий суд, – никакой земной им не страшен. От царя, они думают, уйдут, отсидятся, в лесу спрячутся. Силой можно лишь слегка подправить, наказать двух-трех недовольных, несогласных. Но коли народ не понимает, что ему следует делать, как жить, куда идти – никакой царь не заставит всех.
– И часто они так спорят? – спросил Матвей.
– Да всегда, как вместе сойдутся, – отозвался сосед. – На дух они друг друга не переносят. Ежели один скажет одно, второй завсегда ему поперек выскажет.
– Гости дорогие! – вмешался в спор хозяин. – Не могу не согласиться, что коли утрачивается в народе понимание правды да того, как следует жить, – тут государство и разваливается, когда начинает всякий искать себе места не по чину, делать то, чего не стоит, и прочие непотребства творить. Да, прав ты, наверное, Василий Семенович, что не уследит царь за всем, коли нет в людях понимания, как следует жить. Слыхали, небось, что нынче у немцев творится? А с чего у них начиналось? Тоже каждый свою веру отстаивал. В итоге же – государство рушится. И что делать людям государевым? Убеждать каждого или силой порядок наводить? Я вот поставлен сюда царем за порядком следить, а искать каждому его место – не моя задача. А потому, как могу, буду порядок блюсти и вас прошу его соблюдать, хотя бы за столом.
Воевода попытался придать своему замечанию вид шутки, но его поняли. Недовольные спорщики замолчали, продолжая искоса бросать друг на друга взгляды до конца обеда.
Глава 4
Два боярина
Как и обещал сосед Матвея – тоже из местных бояр, но помоложе, Авдей Игнатьевич Говоров, – после обеда он отвел Матвея подальше и негромко стал рассказывать о давнем споре двух бояр.
Оба они – и Ряполовский, и Гудовинский – были из древней местной знати, считали себя прямыми потомками чуть ли не князя Вятко и соперничали между собой во всем. Если один из них запрягал тройку лошадей – второй выезжал на шестерке. Если один надевал парчовый кафтан – второй покупал атласный. По числу слуг, по земельным угодьям – они постоянно тщились друг друга превзойти. Ну и по влиянию на царских людей тоже постоянно вели соперничество.
– А уж коли где встретятся – в гостях, в походе, в приказе, – немедленно затеют спор.
С этими сведениями Матвей отправился к Хилкову. Тот внимательно его выслушал и принялся рассуждать вслух:
– Итого, мы имеем: четверых местных бояр – Василия Семеновича Ряполовского, Семена Васильевича Гудовинского, Авдея Игнатьевича Говорова и Никифора Трофимовича Долгина. Еще двое прибывших сравнительно недавно, но их, я думаю, можно не считать.
– Почему ты так уверен? – удивился Матвей.
– Им держаться за воеводу, а не ссориться с ним – он им опора против местных, – рассудил Хилков. – Я бы выбирал из двух спорщиков. На кого из них можно подумать? Мне кажется подозрительным Ряполовский.
– Это потому, что он царя Ивана не уважает, а ты уважаешь? – улыбнулся Матвей.
– Да при чем тут это? – возмутился Хилков. – Просто он мне кажется поважнее, и за ущемление своих древних вольностей – а от воеводы такого ждать было можно – вполне мог и поквитаться.
– А почему Семен Васильевич не мог?
Хилков задумался:
– Полагаю, надо с обоими переговорить. Никого пока нельзя отвергать. Да и двое других, хоть они и не выглядят так важно, вполне могли…
После обеда бояре разбрелись по своим домам – каждый из них имел хоромы в городе, – а воевода снова вызвал к себе Ивана с Матвеем.
– Ну что там стремянный? – спросил он, прохаживаясь по горнице, где слуги разбирали стол.
– Да вот, – Хилков оглянулся на Матвея, – мы пришли к выводу, что он не виноват. Хотя, похоже, знает, кто виноват.
– Так пусть скажет!
– Не скажет, – покачал головой Хилков. – Боится.
– Кого боится? Он же в порубе у нас сидит!
– За дочь свою боится, за жену. Как видно, замешан в деле кто-то из сегодняшних твоих гостей.
– О как! – опешил Федор Васильевич. – Чтобы такими обвинениями кидаться, нужны веские основания. С какой стати я возьму знатного боярина в оковы?
– Погоди пока чинить расправу, – остановил его Хилков. – Мы все выясним и тебе доложим.
– Ну ступайте, – отпустил их воевода. – Да держите себя в руках! Помните о чести их рода, да и о своей не забывайте.
Заметив пренебрежительное выражение лица Хилкова, воевода продолжил:
– Вот ты, Иван, посмеиваешься над тем, что бояре меряются своей родовитостью. Но что такое родовая честь – ты ведь, наверное, знаешь? Чем выше чин, тем больше спрос – вот в чем дело. Иной дьячок, выскочив из подьячих в приказные служащие, строит из себя боярина, кичится своим местом да просителей взашей выгоняет. А кто на него управу сыщет? Только тот, кто выше его чином. Потому тут, конечно, сложно высчитать, кто кого выше и на какое место может быть поставлен, но зато и блюдет свою честь и свое место куда тщательнее, чем дьяк-выскочка.
– Чем выше чин, тем больше цена неверного деяния, – возразил Хилков. – И уж коли боярин честь свою забыл да убийством царского слуги руки замарал – тем сильнее его позор будет.

