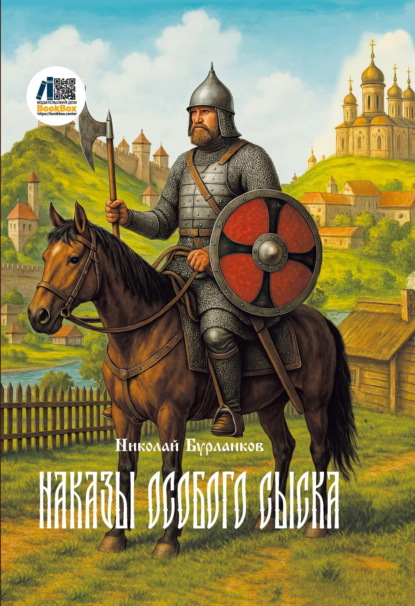
Полная версия:
Наказы Особого сыска
– Не справился Потапов, верно?
– Боярин Гудовинский пойман царскими слугами и передан воеводе, – отозвался Матвей словами, слышанными от Хилкова. – Он сам к нам примчался и сам попросил о защите.
Ряполовский презрительно скривился:
– Так я и думал. Слаб был Семен Васильевич духом, не таким лезть в вожди.
– Просьба у меня к тебе, дабы снял ты всякую нелюбовь с Дмитрия Потапова, стремянного убиенного воеводы.
– К нему у меня нелюбви нет, – отозвался Ряполовский. – Хотя и любви тоже. Пусть живет себе. Неправ я был, когда пытался Гудовинского обелить. Не стоит он того. Ну что же, коли сам он себя отдал в руки царских слуг, – стало быть, вам его и судить. Более ничего ты не хочешь мне сказать?
– Хочу, Василий Семенович, – кивнул Матвей. – Помоги новому воеводе в волости его осмотреться да обустроиться. Вам с ним, я надеюсь, еще долго вместе существовать.
– Чем смогу, помогу, – пообещал Ряполовский. – Надеюсь, он человек достойный.
Когда Матвей вернулся к воеводе, Хилков уже был там и как раз начал рассказывать, как все-таки совершилось убийство Головина.
– Видимо, Семен Васильевич был прав, говоря, что на его месте Ряполовский мог сделать то же самое. Оба они не любили царского воеводу и не терпели ущемления своих прав, сами же постоянно пытались ему навязать, что он должен делать. В общем, на время забыли они свою нелюбовь друг к другу и вместе постоянно ссорились с воеводой. Кончилось тем, что однажды Семен Васильевич повздорил с ним очень крупно, и дело дошло до драки. Как мы и думали, не слышать такое не могли – Потапов слышал ссору.
– И что же он?
– Побежал на крик. В чем была суть ссоры, он не знает, но видел, как все случилось. Так вот, в порыве гнева, что «какой-то царский холоп» считает себя вправе ему указывать, Семен Васильевич выхватил саблю и раскроил воеводе голову. Стремянный вбежал в комнату, но было поздно. Боярин пригрозил Потапову, что, коли тот скажет кому-нибудь, ни ему, ни его семье не жить. И они сговорились, что Потапов все устроит: положит воеводу на кровати, сделает вид, что это мужики его порешили, и так и будет всем говорить.
– То есть сам стремянный ни при чем? – уточнил воевода.
– Ну как ни при чем: ежели бы он сразу сознался, мы бы пять дней не потеряли. Но – да, в гибели своего хозяина он неповинен.
– Чего же испугался Гудовинский, когда вы к нему поехали?
– Вернувшись после убийства к себе, он обнаружил, что кафтан его забрызган кровью, и, не желая мараться сам, отдал холопам, чтобы сожгли. А те пожалели дорогую сряду и припрятали. Гудовинский узнал о том, но поначалу не придал значения, пока мы не собрались проводить обыск. Когда же Матвей сказал ему, что поедет в его имение разбираться, Гудовинский испугался, что даже коли он ничего не найдет, кто-нибудь из мужиков или холопов сболтнет, что знает, и все вылезет наружу, а потому решил убрать и Матвея, и на всякий случай – Потапова, который хоть и молчал, но тоже мог проговориться.
– А Ряполовский?
– Он решил, что Гудовинского надо защищать, ибо тот «свой», и негоже, чтобы он попал в руки царских слуг. А потому тоже пригрозил Потапову, подтвердив угрозы Гудовинского. В итоге стремянный и молчал, рассказывая всем разные небылицы о смерти своего хозяина. А Гудовинского теперь нам с собой забирать?
– Я о нем позабочусь, – ответил воевода.
Впрочем, заботиться не пришлось. Наутро Семена Васильевича Гудовинского нашли мертвым в порубе. Некоторые полагали, что он сам себя порешил, хотя непонятно чем, но Хилков был уверен, что его отравили. И даже догадывался, по чьему наущению, однако новое дело начинать не стал – слишком явным был новый виновник, а старый виновник все равно получил по заслугам.
Возвращались они вдвоем и долго молчали.
– Вот объясни мне, – внезапно прервал молчание Матвей, – почему Христос не к нам пришел, а куда-то в Иерусалим?
– Так ведь он пришел не отдыхать, а спасать! А куда приезжает хозяин с проверкой в первую очередь – в имение, где все хорошо, или где все плохо? Как видно, греков и ромеев спасать требовалось в первую очередь. А пришел бы он к нам? Его бы встретили радостно, накормили, напоили… У нас доброта к путникам, помощь страждущим всегда была в чести.
– Значит, нас и спасать не надо было?
– Ну… – Хилков замялся. – Грехи-то у всех найдутся. Но спасать все равно вначале надо тех, кому тяжелее. Хотя приди Он к нам – мы бы Ему с радостью помогли, может, и спасать бы меньше пришлось, и легче бы было. Ну не знаю я Его замыслов, – как всегда, с неудовольствием, что что-то не может объяснить, признался Иван.
– А я вот думаю, что сейчас уже и нам искупление не помешало бы. Как посмотрю на то, что творится… – Матвей махнул рукой и замолчал.
Впереди поднимались купола соборов, возвышаясь над стенами монастырей подле столицы.
Наказ третий
Золотых дел мастер
Глава 1
В Москве
Осень подступала все ближе – не столько желтеющими листьями, которых было пока немного, сколько сжатыми голыми пашнями, начинающимися моросящими дождями и пронзительно-печальным светом осеннего солнца. Даже купола церквей блестели не так ярко, и весь город стал каким-то серым.
– Давно вас не было, – вместо приветствия встретил их Михаил Борисович. – Дел накопилось много. Правда, Федор Васильевич пишет, что очень вы ему помогли, значит, можно вам доверить и более сложные дела.
– Везет Матвею, – с легкой завистью сказал Хилков. – Я-то вот начинал с разбора самых обычных челобитных, где мужики на своих бояр да воевод жаловались, что те больше оброка взяли, чем положено, или неправедно кого-то засудили. А ему все достаются дела необычные.
– Погоди, придет время и ему в челобитных разбираться, – успокоил его Шеин. – Зато ему есть у кого поучиться. Верно, Матвей?
– Да, – кивнул Матвей убежденно.
– Денек отдохните, а завтра нас ждут на самом верху. Вызывает нас наше высшее начальство, и вы пойдете со мной.
– Неужто к царю? – воскликнул Матвей удивленно-восторженно.
Шеин лукаво улыбнулся:
– К царю? Э, нет, брат, бери выше!
– Выше? – Матвей округлил глаза и почему-то понизил голос: до сих пор он считал, что выше царя может быть только Бог, и надеялся, что все-таки речь идет о ком-то другом.
– Вызывает нас сам Филарет, – объяснил Шеин снисходительно. – Патриарх и отец царя.
Патриарх Филарет – в миру боярин Федор Никитич Романов – приходился племянником первой жене царя Ивана Васильевича, Анастасии – первой и любимой, умевшей усмирять царский гнев и даже менять его на милость. Но после ее смерти Романовы оказались в опале, а царя, как говорили, «понесло», точно взбесившегося коня. Потом Федор Иванович Романовых вернул к власти, дабы уравновесить забравших большую силу Годуновых и Шуйских, а потом снова случилась опала, и в царствование Бориса Федоровича род Романовых просто-таки разгромили. Сам Федор Никитич вынужден был постричься в монахи и уйти в монастырь, где содержался под строжайшим надзором – теперь уже как монах Филарет.
В годы лихолетья, однако, сумел он достичь больших высот, так что иные даже шептались, что и Самозванец появился не без его участия. Впрочем, как объяснил Шеин, трудно было бы Филарету, сидя в монастыре под надзором, участвовать в столь дальних делах, договариваться с ляхами, с нашими боярами, так что скорее «названный Дмитрий» просто возвысил Филарета в пику Годунову. Возвысил столь существенно, что в итоге именно Филарет возглавил злосчастное посольство к Сигизмунду, которое должно было договориться о возведении на московский престол польского королевича Владислава. Но потом, как известно, Сигизмунд передумал, решил сесть на царский престол сам, двинул войска на Смоленск, где и простоял полтора года, сдерживаемый обороной Шеина, – об этом Матвей знал еще от отца. А вот все посольство оказалось в заложниках – и сидело в заложниках восемь лет.
Опять же, на том основании многие шептались после избрания Михаила, будто и его выбрали не без польского участия – однако избранный царь не торопился отдавать земли ляхам, а после провалившегося похода Владислава на Москву те и вовсе перестали вмешиваться в русские дела, занявшись привычным противником – шведами. Видимо, как считал Шеин, Михаил Федорович был тем, кто никого не устраивал, – и в то же время устраивал всех. Ни о подкупе, ни о вмешательстве чуждых сил речи идти не могло, ибо сам Михаил Федорович сидел под Костромой, в Ипатьевском монастыре, почти без какой-либо связи с внешним миром, и, после того как видные бояре – Пожарский, Трубецкой, Мстиславский, куда более знатные и облеченные властью – чуть не передрались между собой, Михаил Федорович внезапно показался всем вполне приемлемым царем. О чем там думали бояре – может, полагали, что заставят его плясать под свою дудку, может, просто не ждали от шестнадцатилетнего отрока никаких подвохов, – неизвестно, но Михаил Федорович был избран всенародно и восемь лет добивался возвращения из плена своего отца.
Хоромы патриарха вплотную примыкали к царским палатам, и, чтобы попасть туда, пришлось преодолеть ворота Белого города, Кремника, и последнюю – самую строгую – патриаршью стражу. После того как Шеина везде признали, их пропустили в малые покои, где патриарх принимал близких гостей.
Матвей с любопытством разглядывал покои. Выглядели они так, словно хозяин еще не до конца тут обжился, и вся обстановка точно сделана наспех.
Патриарх вошел степенным шагом, но Матвею показалось, что такое степенство дается ему с трудом и он едва сдерживает порывистость своей обычной походки, стараясь сохранить надлежащую его чину важность.
Филарет благословил гостей, поклонившихся ему и со смирением припавших к его руке, после чего Михаил Борисович представил своих спутников хозяину.
Тот внимательно рассмотрел обоих, ничего не сказал и только велел слуге подать им закуски к столу, к которому пригласил и гостей.
– Как идет переписывание книг? – спросил Шеин с должным вниманием к делам хозяина.
– Исправляем, насколько можем, ошибки старых писцов, – охотно откликнулся Филарет, – и переводчиков. Но стараемся уважать мудрость предков, всею жизнью доказавших истину слов своих. А это с тобой, стало быть, те юные боярские дети, что помогают тебе разбирать жалобы и устанавливать, кто прав, кто виноват?
– Да, Матвей Васильевич Темкин и Иван Андреевич Хилков, – представил спутников Шеин. Молодые бояре поклонились патриарху, и тот знаком позволил им сесть.
– А вот взгляни, – в свою очередь, Филарет протянул боярину небольшую книжицу на латыни, – Делагарди недавно издал свои воспоминания о наших событиях. Рассказывает, как тут у нас все на самом деле было, – в голосе Филарета звучала насмешка.
– После того как потрепали мы его под Псковом и Новгородом, веры его словам особой быть не должно, – признался Шеин, однако книгу взял.
– Более всего он, конечно, расписывает Клушинскую битву, после которой он и перешел к полякам от нас, – продолжал Филарет. – Тебя она тоже касается.
– Да, Клушинская битва мне памятна, – медленно произнес Шеин. – После нее я остался с польским войском один на один. Впрочем, времени много прошло с тех пор, и теперь я думаю, что не так уж виноват был Шуйский, как его потом обвиняли.
– Делагарди тут с тобой не согласен, – усмехнулся Филарет. – Он во всем винит Шуйских – и старшего брата, и младшего. А сам он якобы держался до последнего и сдался полякам, только когда все наше войско бежало.
– Сам я там не был, – отвечал Шеин. – Сказать, как там на самом деле было, не могу. Но из рассказов тех, кто уцелел – а вот с Григорием Волуевым, воеводой Передового полка, мне потом довелось встречаться, уже как вернулся в Москву, – так вот, по их рассказам выходит немного не так. Сам-то Волуев сидел в остроге с полутора тысячами человек. И он уцелел и сумел отступить потом из боя в полном порядке. У Делагарди было около пяти тысяч человек. Поляков шло около восьми тысяч от Смоленска. Ну и у Шуйского примерно столько же было. Я так думаю, меньше пятнадцати тысяч ко мне на выручку посылать было бестолково – у короля одного тысяч семнадцать я тогда насчитал. У меня тогда уже меньше двух тысяч оставалось, да и те по большей части ополченцы. Думаю, был расчет, что Шуйский с одной стороны, я с другой – мы бы короля разгромили и прогнали. Но тот успел подсуетиться и выпустил Жолкевского на перехват; да, как видно, еще и с Делагарди заранее договорился. И что получилось? А получилось, что вместо равной битвы вдруг у Шуйского оказалось почти вдвое меньше сил – он же только тогда понял, что Делагарди ему изменил, и как себя свеи поведут, было непонятно. Ну тут Шуйский, видно, струсил и бежал, при первых же столкновениях с внезапно появившимися поляками; но будь на его месте кто другой, тот же племянник его, Михаил, он все, что мог бы сделать в таких условиях – это с боем отвести войска. Нет, Делагарди явно пытается с себя смыть обвинение в измене, но я тут ему не верю.
– Ну Бог ему судья, то дела прошлые, и не для их обсуждения я вас позвал, – Филарет перешел наконец к делу, и гости его оживились.
– В Челобитный приказ подали грамоту, – патриарх вытащил свиток из складок своего одеяния, развернул. – Подали на имя самого царя. Думаю, царя-то такими пустяками беспокоить не стоит, но мне мои люди донесли, и я решил сам разобраться. Так вот, челобитчик говорит, что, когда проживал наш царь Михаил Федорович в их земле, в пору лихолетья, подарил тогда еще совсем юный паренек ему золотую застежку для плаща. Красоты она была невиданной, и недавно присланный воевода, увидав такую у простого человека, счел, что он ее украл, и велел застежку изъять, а самого человека посадить под замок. А сын этого человека теперь пишет, что неправедно воевода поступил. А тот юный паренек, что подарил ему застежку, якобы был моим сыном Михаилом.
Шеин задумался:
– Так, может, ты у сына своего спросишь, как дело было?
– Во-первых, – назидательно заметил Филарет, – грешно царя подобной ерундой отвлекать. А во‑вторых, – добавил он с улыбкой, – я уже спрашивал, и он сказал, что правда дарил, но кому – не помнит.
– Но хотя бы помнит, за что?
– Такое не забывается, но тут я и сам могу угадать, – отвечал Филарет. – Это ведь случилось, как раз когда сына моего освободили из польского заточения в Кремле, и многие думали, что он с ляхами заодно. Тогда кто-то помог им тайно выбраться из Москвы и отвез в Кострому, в монастырь. А сын мой уже тогда был царской души человек, – с улыбкой продолжал патриарх. – Коли помогли ему – так он с себя готов был снять последнее и отдать. Вот, думаю, и наградил помощника тем, что было при нем. Стало быть, желаю я, чтобы ты разобрался: тот ли это человек, что сыну моему некогда помог; та ли эта застежка, что от сына моего попала; а коли даже и та – то выкупить бы ее и вернуть в казну, а то беды он с ней все одно не оберется – негоже простым селянам с золотыми застежками разгуливать. Вот такая у меня к тебе просьба.
– Как же я узнаю, та это или не та? – возразил Шеин. – Только ежели ее забрать да царю привести, чтобы признал.
– А вот тут я тебе помогу, – Филарет извлек другую грамоту из складок одеяния. – Дело это довольно давнее. Был у меня некогда редкий искусник, золотых дел мастер. Еще при рождении сына моего я ему заказал золотую пряжку на пояс и золотую застежку для плаща. Тот все славно сработал, принес и, узнав, что я готовлю это в подарок сыну, вручил с напутствием, сказав, что ожидает его великое будущее. Не ошибся, как видишь. Впрочем, подозреваю, что он всем, кому подносил свои изделия, такое говорил; но вот тут не промахнулся. Потом искусника этого у меня попросил Годунов, да так и не вернул, – Филарет вновь усмехнулся, но на сей раз его усмешка была грустной, – и позже я узнал, что он оказался как раз при том монастыре, куда уехали сын мой с женою моей, поскольку был тот монастырь в вотчине Годуновых. Так вот, съезди в монастырь, – и коли жив он, то признает свое творение. Он же и подскажет цену, чтобы селянин, оказавший услугу моему сыну, в накладе не остался.
– Ну а ежели выяснится, что правда все так и обстоит, как в челобитной описано, и воевода несправедливо отобрал подаренную вещь, – что с воеводой делать?
– Ты мне, главное, отпиши, а мы тут придумаем, что с ним делать. С одной стороны, его тоже понять можно – и впрямь могут возникнуть сомнения, откуда у селянина золотая застежка. Но с другой – есть у меня подозрение, что воевода отобрал вовсе не чтобы отдать в казну, а чтобы забрать себе. Потому как от него я никаких грамот не получал, что якобы нашел он царскую украденную вещь и желает вернуть. Справедливость, друг мой, крайне хрупкая вещь. Ее один раз нарушишь – и доверия тебе не будет. А без доверия слушать тебя будут только из-под палки. Потому, вероятно, придется его оттуда снять и отправить в другое место. Наказывать-то, вероятно, не стоит – зачем позорить род, тем более что и не докажешь ничего? А вот убрать оттуда надо.
– Но коли он ничего не доносил, он может и отпираться начать, что, мол, не видел, не знаю!
– А вот тут у меня сыну моему веры больше, – отвечал Филарет. – Не мне тебя учить, но тогда надо будет как-то вывести боярина на чистую воду; и вот коли выяснится, что он еще и утаить ее хочет – тогда спрос будет по всей строгости. Ну и пом-ните, что дело государственное, и на сына моего никакой тени бросить оно не должно.
– Однако ж с воеводой как-то надо будет объясниться, коли застежка у него, – задумчиво проговорил Шеин. – Мы хоть взглянуть на нее должны!
– К воеводе пойдете, только ежели не сыщете мастера, что ее изготовил. В том у меня вам настоятельный наказ. Мастеру объясните, кто его спрашивает да зачем, – думаю, он быстро все вспомнит.
По выходу от патриарха молодые бояре наконец спокойно выдохнули. За столом у Филарета оба боялись даже дышать, дабы не вызвать неудовольствия того, кого Шеин почитал выше царя. Теперь же Михаил Борисович наконец соизволил обсудить с ними предстоящее дело.
– Даже не знаю, как вас напутствовать, но сами понимаете, что дело сугубо тайное, и огласки никакой быть не должно, – произнес он. – С чего думаете начать?
– Найдем этого мастера, – отозвался Хилков.
– Странно, что он оказался там же, где и застежка, – проговорил Матвей задумчиво. – Ведь какими разными путями шли! Разошлись из вотчины Романовых двадцать лет назад, а то и более, мастера в одну сторону кидало, его творение – в другую; а вот ведь – сошлись под одним воеводой…
– Да, неисповедимы пути Господни, – согласился Шеин. – Нате вам, изучите челобитную покамест. Из нее тоже много чего узнать можно. Что за человек писал, когда, где – помните, что и с ним вам тоже надо бы встретиться да поговорить, но так, чтобы он не понял, откуда вы и зачем его расспрашиваете.
– Ну ты, Михайло Борисович, и задачки задаешь! – воскликнул Иван. – Как же мы его расспросим, не говоря зачем?
– А уж тут проявите смекалку, – усмехнулся Шеин. – Не зря же я вас Филарету расхвалил? Вон, в позапрошлый раз Матвей как придумал Рябого на приманку взять? Может, и тут что разыграете…
– Что мы, скоморохи, что ли, какие, всякий раз из себя невесть кого изображать, – проворчал Иван.
Матвей между тем с любопытством изучал челобитную. Они сидели верхом, кони медленным шагом шли привычной дорогой, и можно было не отвлекаться на управление конем.
Шеин заглянул Матвею через плечо:
– И что думаешь?
– Писал писарь – стало быть, сам челобитчик неграмотный. Но на писаря средства есть – стало быть, не из бедных.
– Или наскреб последнее, поскольку последнего лишился! – возразил Хилков.
– Тоже может быть, но держать столько лет дорогую вещь, и в голод ее уберечь, и в лихолетье – значит, было на что еще жить.
– Справедливо, – согласился Шеин.
– Более, пожалуй, все.
– Ну а кто он, по-вашему?
– Селянин какой-нибудь, – предположил Матвей.
– Помните, что Филарет говорил? Он помог сыну его из Москвы в Кострому добраться. Странный селянин, не находишь?
– Тогда, возможно, купец или приказчик купца?
– Возможно, – согласился Шеин. – В общем, разыщите его на месте.
Он остановил коня возле здания Разрядного приказа – самого крупного из всех приказов, для которого хоромы восстановили первыми после пожаров и разорения.
– Ну-ка, подождите меня здесь, – велел боярин.
Он вернулся довольно быстро, держа в руках небольшой лист бумаги.
– Вот, сделали мне выписку про то, кто нынче в Костроме воеводой.
– Про то я и так знаю, – усмехнулся Хилков, – там дядя мой был воеводой до недавних пор, а года три назад его сменил Василий Петрович Щербатый.
– Ты смотри, какой прыткий! – похвалил Шеин. – Верно. Да только вряд ли ты все про преемника своего дяди знаешь. Вот, возьмите, изучите на досуге. – Он протянул Хилкову лист и запрыгнул в седло, после чего все трое двинулись дальше – к дому боярина.
Возле своего крыльца Михаил Борисович остановил спутников.
– Видел я, что у Филарета вы почти и не ели ничего. Так что приглашаю на обед к себе. У меня за столом можете не стесняться.
Позже, сидя в горнице во главе стола, Михаил Борисович разглагольствовал, держа в руке чашу:
– Все дела начинаются с челобитной. Ведь и в самом деле, как еще государевы люди узнают, что в государстве творится? Своих доглядников везде не поставишь, а ежели кто какую несправедливость учинил или нужда где-то великая – к царю или царским слугам и обращаются. Царь Иван Васильевич больно суров был: при нем доносчику полагался первый кнут. Вот и перестали о неправых делах его слуг челобитные писать. Царь Федор Иванович, на мой взгляд, придерживался самого разумного подхода: челобитников он принимал, но велел расспрашивать, что да как, да кто они, да откуда. А вот царь Борис ударился в иную крайность: давал ход любым, даже подметным, письмам, не спрашивая, кто написал и правда ли там. Ну оно и понятно: в грамотах пишут о неблаговидных делах бояр, воевод, дьяков, а царь Борис с боярами вел войну и возможностью их очернить всегда пользовался. Вот, собственно, до Смуты и докатился…
– А сейчас как? – спросил Матвей.
– А сейчас так, как вы сами решите. Но пока будем делать, как царь Федор Иванович наставлял. Так что отправляйтесь да выясняйте, кто да как, да почему. И помните, о чем просил Филарет.
Глава 2
Путь на север
Путь их лежал по тем же местам, по которым десять лет назад шло на Москву Земское ополчение, только в обратную сторону: если ополченцы шли от Ярославля к Москве, то Хилков и Матвей ехали на север, через Троицкую обитель, Переяславль, Ростов – поддерживавший в лихолетье Самозванца, – Ярославль – средоточие борьбы с ним – и дальше через Волгу на Кострому.
Дорога мимо Троицкого монастыря навела Ивана на мысли о давнем разговоре с Матвеем.
– Помнишь, ты говорил, что и нам сейчас посещение Христа бы не помешало? Так вот, думаю я, что и наши с тобой заботы и дела направлены на то, чтобы подольше Второе Его пришествие не наступило. Все-таки, как ни крути, а пытаемся мы делать богоугодное дело, наставляя зарвавшихся и помогая несчастным.
Матвей покачал головой:
– Силой не переубедишь. Силой можно заставить, запугать, удержать, убить, наконец… А я хочу, чтобы те, кого мы ловим, поняли бы, в чем они не правы! И чтобы думали не так, что – вот, у него сила и он может делать что хочет, а пришли мы, у нас больше силы, за нами, ежели надо, все московское войско встанет, и мы можем творить что хотим. А думали бы, что сила ему дана не за то, что он такой умный да красивый, а и умный он, и красивый, и сила ему дана – дабы пустить все свои умения на помощь другим, тем, кому дано меньше.
– Ну ты хватил! – воскликнул Хилков. – Во-первых, любой из них тебе тут же заявит, что не обязан кормить всяких дармоедов, кто работать не может. А во‑вторых, ты не просто их наказать хочешь – ты им в душу залезть готов? Не думаю, что это по-божески. Мы указываем, что они не правы, а уж что они поймут – это их дело.
Матвей несогласно дернул бровью, но промолчал.
Переправившись у Ярославля, путники нагнали едущий в том же направлении купеческий обоз из пяти телег, занимающий все проезжее место. Справа по берегу Волги шел густой лес, слева дорогу теснили наступающие болота.
Хилков попытался было потребовать от хозяина обоза уступить дорогу, но Матвей удержал его: притомившимся коням нужен был отдых, до конца пути было уже недалеко, а купец, узнав, что ненароком загородил дорогу двум боярам, предложил им и отдых на своих возах, и снеди в дорогу.
Молодые бояре спешились, привязали коней к заднему возку, а сами забрались на телегу, на которой ехал и хозяин обоза.
– Как торг идет? – спросил Хилков больше из вежливости.
– Да какой сейчас торг! – горестно провозгласил купец. – Вот лет двадцать назад, говорят, был торг – я тогда еще мал был, с отцом ездил, и хоть он поругивал тогдашнюю власть, а нарадоваться на свои барыши не мог. Тогда к нам и с запада приезжали, и с юга, и с востока. А сейчас только по Волге путь еще держится, да и то, говорят, меж Астраханью и Казанью лихие люди безобразничают.



