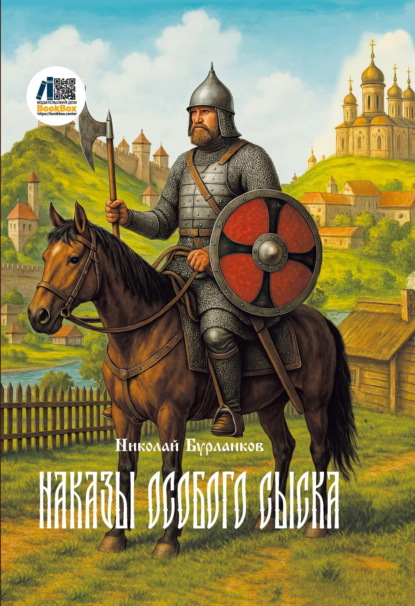
Полная версия:
Наказы Особого сыска
– Да ты не торопи, дай срок! – Хилков закинул руки за голову, растянулся на возке мечтательно. – Вот справимся с разрухой – и заживем на славу! Эх, а сколько дел-то сейчас вокруг!
– Это у вас дела, а у нас одни убытки, – печалился купец. – Да и то сказать, раньше ганзейцы, фрязины да свеи охотно наши меха брали. А сейчас кому они нужны? Одни голландцы к нам ходят, да и те с опаской. А вот был я по молодости на юге, плавали с отцом по Хвалынскому морю. Вот где люди живут! Не то что в наших лесах, – купец сердито повернулся в сторону леса, тянувшегося по правую руку.
– Да что там на юге, скалы да выжженная степь, – отмахнулся Хилков. – А у нас тут и дух здоровый, и земля богата.
– Это ты на море не был, – возразил купец.
– Вот никогда не понимал этих разговоров, – вступил в разговор Матвей, – где жить лучше. Может, там и лучше – да я-то там кем буду? Зачем я там нужен? Тут – земля, что меня взрастила, тут будут жить мои дети, и от меня зависит, какой свою землю я им передам. А поеду я туда, где и без меня хорошо – и что? Присосусь к тамошним благам, как пиявка к корове? Жизнь-то разве в этом?
– Это ты по молодости так говоришь, – возразил купец, – да потому, что боярского роду. А судьбы разные бывают. У тебя земля, да, – а вот как быть, скажем, человеку, у которого дар строить каменные храмы, а в его земле вообще такого не строят, потому как камня нет? Поехал бы в другую страну – понастроил бы храмов, радовал бы людей, а тут будет прозябать на своем клочке земли да и помрет, никому своего дара не передав.
– Подожди, – Матвей рывком сел на возу. – Не бывает так, чтобы был у человека дар строить каменные храмы, да не строить деревянные! Или вон у нас сколько крепостей стоит в местах, где никакого камня нет – а прочные, из кирпича сделанные. Вот твой человек бы съездил, поучился – да и вернулся бы и строил в своей земле так, как ей нужно. Ну нет камня – из кирпича строит. Было бы желание.
– Желания мало. Один человек всяко храм не построит. Нужно, чтобы царь, князь, боярин али монастырь ему бы такое велели построить. А коли в земле вовсе храмы не строят?
– Вот на то и нужен царь, князь да боярин, чтобы думали, что земле надо, а что нет. Может, у кого дар чужие кошели воровать – я не думаю, что коли он своего дара не проявит, земля от того много потеряет! – вступился за друга Хилков.
– Так в далекую старину было, – отмахнулся купец. – Кто был боярин в старину? Вот такой глава земли, о котором ты говоришь, тот, кто и в бой поведет, и в работе каждому место укажет.
– А что поменялось? – удивился Хилков. – Места у нас нелегкие, поодиночке никто не выживет, миром выживаем, общее хозяйство ведем. А в хозяйстве – и мельница, и кузница, и ткач, и плотник, и хлеборобы, и охотники быть должны, и каждый должен знать свое место и понимать, что ни голодным не останется, ни без защиты, и с крышей над головой. Для того и существует глава – чтобы каждому урок дать и его выполнение спросить, дабы все были сыты и обуты.
– Да, верно, – кивнул купец. – Только, повторюсь, давно так было. А потом решили бояре, что не их это дело – трудиться наравне с другими, да еще и лучшими в работе быть. Оставили себе только воинское дело. Мол, вот саблей махать – это наше, а от остального увольте. А уж дети их и вовсе хозяйство своей вотчиной считать стали: оно их кормить должно, не они о нем заботиться. Пропадали в походах государевых да в делах военных. А потом и военное дело забросили, стали выставлять военных холопов взамен себя – дворян. Сами же жили в свое удовольствие и горя не знали, да только хозяйство-то без главы не может. Кто разорялся, кто крестьян своих по миру пускал. А как недород случился – так и вовсе стали имения свои продавать, и нашлись оборотистые молодцы, что прибрали к рукам все хозяйство и стали из него соки тянуть к своей выгоде. А бывшие князья да бояре толпами в столицу стали стекаться, дела себе искать. Да меж собой козни строить. И как тут было Смуте не случиться?
– Ты, стало быть, бояр в Смуте винишь? – насупился Хилков.
– А кого еще винить – холопов да смердов? Коли бояре свой долг забывают, земля и разваливается. Ибо кто тогда решит, что ей нужно, а что нет? Вот и не сыщется никого, кто бы храмы строил, деревянные или каменные – это уж не важно, когда земля в запустении…
– Так ведь каждый свой долг исполнять должен, – произнес Хилков несколько растерянно.
– Да; но коли холоп своего долга не исполнит, выпорют его на конюшне, и всех делов. Коли дьяк какой к своей выгоде будет дела поворачивать вместо исполнения долга – выпорют на площади да лишат права заниматься делами. А на боярина кто управу найдет?
– Так бояре-то как могут не о благе земли думать? – удивился Хилков. – Их земля кормит и поит; мы, коли своим хозяйством заниматься не будем, крестьян по миру пустим, сами лапу сосать, как медведи, начнем!
– Однако ж случалось и такое, что боярин землю свою и разорял, и продавал; и не только простые люди искали себе места получше, но и бояре в иные земли подавались за счастьем, – горестно возразил купец, взглянув на Матвея.
– Я могу понять беглеца, – произнес тот, – коли дома ему смерть грозит. Тогда, ежели и убежал он – осуждать не могу. Вон, в голод сколько народу на юг да в Литву подалось – не думаю, что надо было им остаться и голодную смерть принять в родной земле.
– Это коли не родовитые да честь рода не берегущие, – заметил Хилков. – А тому, кто о чести своей да рода своего заботится, лучше погибнуть, а не бежать от смерти.
– Тут тоже смотря какая смерть тебе грозит, – не согласился Матвей. – Одно дело – смерть в бою. А другое – если по навету завистника или просто царю не угодил. Тут ведь не просто смерть, тут еще и позор будет. Потому как ежели не очернят тебя как злодея, то вроде бы и казнить не за что?
– Погоди, – прервал его Хилков. – Ты хочешь сказать, что князь Курбский правильно сделал, что сбежал?
– Ты сам погоди и меня на слове не лови, – повернулся к нему Матвей. – Курбский не из последних людей в царстве был, и на Казань одним из первых воевод ходил. – Матвей мог свободно о том рассуждать, ибо всякого молодого боярина подробно обучали истории деяний как его предков, так и других боярских родов. – Чтобы такому бросить все и бежать – наверное, нужно, чтобы и угроза была немалой. Я не знаю, что там ему грозило, но, если правда собирались его казнить, я его осуждать не могу. Не знаю, как я бы поступил. Но вот когда он про землю свою разные небылицы сочинять начал, да еще и врагов на своих сородичей повел – вот это уже однозначно измена. Одно дело – свою жизнь спасать, другое – нести горе и разорение своей земле.
– А я бы все одно не побежал, – упрямо заметил Хилков. – Ежели верно служил царю – так за что казнить? А коли были грехи – так бегство только следствие грехов, а значит, и все остальное – такое же неправедное, и прощать его не стоит.
– Царь все-таки не Бог, – сосредоточенно возразил Матвей. – Царь может казнить, может наградить, но от старости, от болезни он ни себя, ни других защитить не может. И в душу другому заглянуть не каждому, даже царю, дано. Очернят перед ним кого-нибудь, кто верно ему служил, – и прикажет царь его казнить. Потом выяснится, что ложь это, да только голову назад не пришьешь! А не было бы наветов напрасных – мы бы с тобой по всей земле не носились, выясняя, где правда, а где ложь.
– А вы с чем едете? – полюбопытствовал купец.
Матвей хотел ответить, но Хилков опередил его:
– А едем мы по делам государевым, и не со всяким о том говорить можем.
– Так я мог бы и помочь чем, – предложил купец. – Я ведь сам из Костромы, по Волге всю жизнь катался – что вверх, что вниз: вверх до Твери и дальше до Новгорода, вниз до Астрахани.
– Сейчас, я так понимаю, идешь из Твери? – уточнил Хилков.
– Из Углича, – ответил купец. – Пытаемся со свеями старый торг вернуть, да они после войны не больно охочи торговать с нами.
– Ты скажи, как тебя зовут да где в Костроме тебя сыскать, и мы, коли помощь твоя понадобится, тебя сами найдем, – сказал Хилков.
Выяснилось, что зовут купца Василием, сыном Тимофея, прозванием Тарасов, а дом его в двух шагах от Волги, на самом берегу, коли идти с запада, то четвертый с краю.
– Что ж ты, живешь у самой реки, а товары возишь возами, а не ладьями? – удивился Хилков.
– До своей ладьи я еще не дорос, – признался купец. – Ладья подороже будет десятка телег, да и набирать на нее людей надо опытных в ладейном деле, а они тоже цену заламывают немалую.
– Можно вскладчину, – предложил Матвей.
– А вот складчину я уже перерос, – возразил Тарасов. – Так что, может, на возах дольше и неудобнее, зато дешевле.
– А не уедешь ты куда опять по торговой надобности? – спросил Хилков недоверчиво.
Купец отмахнулся:
– Куда уж я теперь поеду? Скоро заладят дожди, дороги развезет, так что до санного пути буду дома сидеть, в своем городе торг вести.
– Вот ты в разных землях бывал – не встречал умельца, у которого был бы дар дороги строить, такие, чтобы дождем не размывало? – с ехидством спросил Хилков.
– Или ковры-самолеты делать? – добавил Матвей.
– Чего не встречал, того не встречал, – с грустью признал купец.
Лес отодвинулся от болота, появилась узкая полоса луга, и бояре, простившись с купцом, отвязали коней и помчались в обход обоза вперед, к угадываемому впереди по колокольному звону церквей городу.
– Михаил Борисович верно сказал – не стоит нам к воеводе ехать, – заметил Хилков. – Коли мы на него управу ищем, сперва надо выяснить, что да как.
– Но хотя бы нам надо узнать про того, кто челобитную написал! – возразил Матвей.
– И это нам придется без помощи воеводы сделать.
Матвей задумался:
– Тогда сперва заедем в монастырь?
– Поехали, – согласился Иван. – Только помни, о чем просил Шеин: обо всех делах молчок.
Глава 3
В монастыре
Монастырь, воздвигнутый в честь праздника Святой Троицы – как и памятная обитель преподобного Сергия, – раскинулся на берегу Волги неподалеку от города, как раз по дороге для них. Издалека виднелись белокаменные строения – храм Троицы, стены и башни, местами еще хранившие следы осады в годы Смуты. Как заведено было в монастырях, путников приняли, приютили и отвели место в странноприимном доме недалеко от ворот.
Они расположились в тесной комнате с двумя лавками вместо лож, без стола, без посуды – в общем, только ночь переночевать. Впрочем, Ивана это не взволновало. Бросив шапку на лавку, он задумчиво прошелся по узкой комнате.
– Ну? Как будем искать мастера?
– Спросим. Должны в монастыре знать, где у них искусник по золоту проживает.
– Но как мы объясним самому мастеру, зачем он нам понадобился?
– Я о том всю дорогу думал, – обрадованно ответил Матвей, вытаскивая из ворота рубахи нательный крестик. – Вот смотри: крест у меня дорогой, от деда достался. А ношу я его на тонкой веревке. Мне предлагали цепочку сделать, да я отказался – шею натирает. Но ежели мы придем к мастеру и попросим цепочку сделать, думаю, он ничего не заподозрит. Да и расспросы, где его найти, тоже будут понятными.
Иван внимательно рассмотрел крест: тот и вправду был тонкой, изящной работы, с внутренним узором, без распятия – в старину еще хранилась традиция не изображать Спасителя на кресте.
– Да, думаю, можно попробовать. А когда согласимся – ты цепочку так и купишь?
– Поглядим. Придется – так и куплю, что ж делать.
На монастырском подворье им довольно быстро сказали, где искать золотых дел мастера. Жил он на отшибе, один, только один хлопец был у него на побегушках.
Мастер оказался пожилым морщинистым человеком с длинной седой бородой и совершенно лысой головой. Друзья нашли его в полутемной комнате, освещенной лучиной, сидящим за длинным столом, заваленным всевозможными орудиями его труда.
Звали мастера Прокопом, Ивановым сыном, прозванием Остроглаз. Сейчас, правда, по его словам, глаза у него были уже не те, что в молодости – а в молодости-то он глаз у мухи, сидящей на верхушке дерева, мог рассмотреть. Когда Матвей протянул ему крестик, Прокоп внимательно принялся его изучать, рассматривал со всех сторон, потом достал из ящика бережно спрятанное стекло, отлитое в виде чечевицы, и посмотрел на ушко крестика через него.
– Знатная работа, – мастер поднял стекло на гостей, и они увидели в нем удивительно увеличенный, бесовский темный глаз. – Сейчас так не делают. Ежели не изменяет мне память, сработал сей крестик Юрок Старый из Новгорода, тот, что еще копейки новгородские делал. Дед мой у него учился. Вот, взгляните, как ушко закреплено – и тонкое, и надежное! – Он протянул стекло гостям, чтобы те сами убедились, но они предпочли поверить на слово. – Ну что же, – он взглянул на шею молодого боярина, где предстояло висеть кресту, – цепь будет в пол-аршина – стало быть, возьму с вас за нее восемь рублей. Через неделю приходите.
– А ты, я вижу, один тут живешь? – спросил Иван, оглядывая жилище мастера, не столько из любопытства, сколько чтобы подольше тут задержаться.
– Да, не нажил я ни детей, ни супруги – все работа проклятая забрала, – пожаловался тот.
– Я слыхал, ты раньше и на царей работал? – предположил Иван.
Прокоп пожал плечами:
– Доводилось. Хотя вот прежний мой хозяин, Борис Федорович, как царем стал – так меня в дальний монастырь отправил, и более я ему стал не надобен.
– Что так?
– Да тут вот какое дело приключилось… – Видно было, что старому человеку хотелось поговорить, и он обрадовался, найдя благодарных слушателей. – Давно уж, лет двадцать назад, приходил ко мне боярин, который, по слухам, потом стал митрополитом.
– Патриархом? – уточнил Иван.
– Как? Ну, может, и так. Патриарх-то вроде как раньше праотцов называли, типа патриарх Ной или патриарх Адам – это нам священник в церкви говорил. А теперь, может, и в церкви главного так называют. Но, в общем, этот боярин у меня заказал пряжку для пояса, застежку для плаща и перстень-печатку. Пряжку и застежку он потом сыну своему подарил, а печатку себе оставил. И потом, когда я, стало быть, на Бориса Федоровича работать начал, новый мой хозяин все просил меня, чтобы я ему такие же вещи сделал. Но оно знаете как бывает? Тогда молод я был еще, душа пела, все хотелось нового попробовать, сотворить что-то такое, небывалое… Душу я в тот раз в свои творения вложил, да так, что самому любо-дорого посмотреть было. Есть вещи, которые можно совершить только один раз, на второй просто сил не остается. И сколько я ни пытался сотворить что-то подобное – а не выходило у меня. А Борис Федорович решил, что это я ему нарочно не желаю делать, дабы старому хозяину угодить. Вот и сослал он меня сюда – век коротать…
– Да, царям угодить нелегко, – задумчиво кивнул Хилков. – Ну что ж, не будем мешать тебе в твоей работе! – он незаметно подмигнул Матвею, и они собрались уходить.
– Пожалуй, куплю я у него эту цепочку, – произнес тот, когда они вышли. – Жалко человека. Живет один, старый, никому не нужный, и даже хозяева прежние его бросили. Надо Михаилу Борисовичу написать, пусть с патриархом поговорит, да тот к себе его возьмет.
– Одно дело мы сделали: концы сошлись, – заметил Иван, отвечая больше своим мыслям, чем Матвею. – Мастер, что делал застежку для сына Филарета, – Иван как-то остерегался называть его царем, – и впрямь живет тут. Теперь надо добыть ту застежку?
– Или найти того человека, что о ней пишет. – Матвей вытащил грамоту, развернул, вновь стал читать. – Да нет, конечно, по имени мы его не сыщем.
– На что же он рассчитывал, когда челобитную подавал? – удивился Хилков.
– Так ведь ежели бы мы напрямую действовали, от царя, то воевода-то бы всяко нам его указал, – пояснил Матвей. – А зайди мы сейчас к любому писарю в местном приказе – придется объяснять, кто мы да откуда прибыли.
– Все едино нам в город идти, – покачал головой его спутник.
Совсем неожиданно они наткнулись на настоятеля, идущего прямо им навстречу в сопровождении ключника, звонаря и еще нескольких братьев не последнего чина.
– Довели мне, что у нас на подворье объявились бояре из Москвы, а что ж вы ко мне не зашли? – спросил настоятель голосом, как показалось Матвею, излишне сладким.
– Да мы проездом, – Хилков переглянулся с Матвеем, недоуменно пожавшим плечами: они никому не говорили, что из Москвы. – И ненадолго.
– Пожалуйте к трапезе!
– Не очень-то мы к монастырской еде приучены, – вновь попытался уклониться от этой чести Иван, но настоятель явно был непреклонен.
– Для вас я прикажу накрыть у себя в келье.
Иван махнул рукой, сдаваясь.
Чувствовали они себя за трапезой у настоятеля несколько неуютно. Хилков все пытался вычислить, кто ж донес настоятелю, что они из Москвы. Матвей вообще не отличался разговорчивостью. Зато настоятель болтал за троих.
– Вы уж не взыщите за скромность трапезы, – хозяин явно скромничал, накладывая себе на блюдо нарезанную осетрину и дичину. – Мы гостей не ждали!
– Да мы и не напрашивались. – Хилков хоть и был воспитан в уважении к священному сану, явно начинал сердиться от непрошеной опеки.
– Ну, гости из Москвы для нас всегда в радость. Нечасто московские бояре сюда заезжают.
– Но зато какие! – попытался поддержать беседу Хилков.
– Вы про государя нынешнего? Да, верно, в лихолетье и он от разбойников в нашей обители прятался. А куда деваться? Всюду разорение, юному отроку и покоя более найти негде.
– Но он вашу доброту помнит, – начал было Хилков и осекся, заметив, как изменился в лице настоятель.
Как видно, не очень по-доброму тут тогда отнеслись к еще незнатному сыну опального боярина, и мысль, что царь не забыл о том, была настоятелю не в радость.
– Времена были лихие, – попытался замять разговор настоятель. – Тогда ведь всякий боярин мнил себя царем. Кто сильнее – тот и царь. Забывал народ слово Божие, чуть вся земля не пропала. Добро еще родовитое, старое боярство! А то ведь во времена царя Ивана Васильевича повылезало множество мелких людишек, что стали себя мнить равными высшим боярам. А царь таких поощрял, приближал и землей наделял – частенько за счет этих самых бояр. Думал, они ему опорой от старых бояр будут. Вот уж такие в лихолетье разгулялись!
– Ты, стало быть, полагаешь, что в Смуте Иван Васильевич виноват? – нахмурился Хилков.
– Ну не он один, конечно. Однако ж именно его трудами поделилось наше государство на два: из старой, родовитой знати, на которых земля держалась испокон веков – земство, – и с молодой, новоиспеченной, выскочек возле престола – опричнину. И начала опричнина старое боярство грабить, как завоеванную страну. Потом-то опричнину разогнали, старое боярство вернули – да только не те уже бояре стали. Присмирели, слова поперек царю боялись сказать. А с новой знатью не ладили. И пока жив был царь Федор Иванович, он ухитрялся удерживать и тех, и других; а уж как он помер, так все старые обиды вновь и повылезали.
– Да еще и голод, – вставил Матвей.
– Так ведь и голод не на пустом месте возник. Да, недород был – а когда его не было? Раз в десять лет – пожалуйста; кто победнее – лебеду да крапиву ест до нового урожая.
– Ну, говорят, тогда неслыханный был…
– Недород-то был не сильнее того, что старики помнили за полвека до этого. А вот запасов не осталось. Ибо ни к чему делать запасы, коли опричники явятся да выгребут все подчистую… Вот и выходит, что когда земля живет обычным укладом и всякому почет по его роду и заслугам, то и беды легче переносятся. А коли начинают вылазить всякие проходимцы да за счет угодливости царю власти добиваются – тут всем плохо приходится. И им же потом, прежде всего! Их-то в любую замятню первыми бьют. Да не думают они на долгий срок вперед. Им бы сейчас пузо набить. Может, в детстве голодали, торопятся теперь впрок наесться? Не знаю. Но чтобы властителем земли быть, надо иметь уважение и к себе, и к народу своему, и к земле своей. А не только к начальству своему. А паче всего пред Господом свое место помнить.
Матвей начал что-то понимать, вспомнив историю монастыря. Ежели Троицкая обитель вначале держалась Шуйского, а потом поддержала ополчение, то Ипатьевский монастырь до последнего стоял за самозванца, и уже после освобождения Москвы его брали местные оружные люди чуть ли не приступом. А потому, надо полагать, и сейчас тут бродили не всегда законные настроения, и всякая проверка из Москвы могла быть очень некстати.
Хилков, однако, придерживался иного мнения. Улучив время, когда настоятель замолчал, занятый пережевыванием, он со всем возможным почтением спросил:
– Прости, отче, но тебе, случаем, не воевода про нас поведал?
– Василий Петрович? Я так и подумал, что вы к нему пробираетесь. Нет, он к нам нынче еще не присылал. А вы, я так понимаю, и от него свое прибытие втайне хотите сохранить? Так на меня тут можете положиться, да и на всю братию мою. Пусть Василий Петрович спокойно спит, – настоятель заговорщицки подмигнул молодым боярам. – И вы уж перебирайтесь из вашего клоповника к нам сюда, мы вам выделим кельи, что для богатых гостей держим. Хотите – можем хоть ту, где нынешний государь как-то почивать изволил?
– За честь спасибо, но нас и наш клоповник вполне устраивает, – поклонился Иван. – Ты не сомневайся, отче, мы в обиде не будем. Нам просто надо будет на ночь глядя уйти и среди ночи, возможно, вернуться – так не хотелось бы вас тревожить, от всенощной отвлекать.
– Ну как знаете. Увидите Василия Петровича – поклон ему от меня передавайте!
– Непременно, – заверил Хилков.
Наконец они распрощались с настоятелем и вышли на монастырский двор.
– Ты хоть что-нибудь понимаешь? – спросил Иван.
– Думаю, да, – кивнул Матвей. – У них самих рыльце в пушку, вот и боятся, что мы или воеводе, или в Москву о том донесем.
– Ну их дела с воеводой нас не касаются нынче. Хотя как знать?.. Но каков, а – опять у него царь Иван во всем виноват!
– Может быть, не так уж он неправ? Царь Иван и впрямь больно много сломать всего решил. Не всегда стоит ломать то, что дедами и прадедами построено, лучше жить по заветам дедов и прадедов.
– Так ведь деды и прадеды заветы свои не с небес получили! – возразил Хилков. – Много чего они пробовали, и ошибались, и страдали, – и опыт свой передавали детям и внукам. Но всего и они знать не могли, ибо тоже люди, а не всеведающий Господь. А потому иногда и их заветы не помогут. Приходится своим умом доходить, на своих плечах выносить да своим лбом прошибать.
– Наверное, коли добиваешься блага своей земле, порой и силу приходится применить, – согласился Матвей. – Но коли все время приходится ее применять – стало быть, явно делаешь что-то не благое. Когда дела твои на благо, достаточно наказать одного-двух несогласных, и остальные притихнут, а большинство тебя поддержат. Но если несогласные только множатся, если все больше готовы умереть, чем уступить, – стоит задуматься, верно ли ты понимаешь благо своей земли. И коли на каждом шагу приходится одолевать несогласных – может, не надо лбом прошибать, а просто повернуть и пойти в иную сторону?
Они подошли к монастырской поварне, куда добытчики как раз привезли дичь с охоты. И Хилков, судя по его действиям, как будто и впрямь решил что-то собственным лбом прошибить.
– Ловчий, – вдруг прошептал он, стукнув себя по лбу со всего размаху ладонью.
– Что? – не понял Матвей.
Иван повернулся к нему:
– Ловчий! Меховщик. Пушной промышленник. Помнишь, ты говорил, что челобитная от кого-то, кто сам неграмотный, но при этом не простой селянин? Так вот, охотники за пушниной – они же ходят куда пожелают, к хозяйству не привязаны, а при этом роду незнатного, богатства небольшого – потому грамоте могут быть и не обучены.
– Боюсь, нам это мало поможет: в Костроме пушной промысел один из самых частых, – покачал головой Матвей.
– Все равно. Смотри, в грамоте сказано, что пишет сын человека, которого воевода посадил под замок. Думаю, ежели прогуляться по пушным рядам да спросить, кого не так давно воевода схватил, – мы кое-что выясним.
– А мне, как всегда, расплачиваться за меха и делать вид, что я боярский сынок, новую шубу себе присматривающий? – возмутился Матвей.
Хилков усмехнулся в ответ, но промолчал.
В город решили отправиться, пока светло. Торг там, верно, уже подходил к концу, но людей, расходящихся с него, они еще могли бы застать. Медлить было опасно – раз настоятель проведал про них, то и воеводе кто-нибудь мог донести.
Они добрались до торговой площади, расположенной над берегом Волги, к которому прямо от рядов шли мостки и переходы для сошедших с насадов и ладей и для катящихся к берегу телег, когда уже смеркалось. Народ расходился, но в меховых рядах еще стоял одинокий молодой промышленник, отчаянно пытаясь продать товар.
– Что, не идет торговля? – участливо спросил Хилков у парня.

