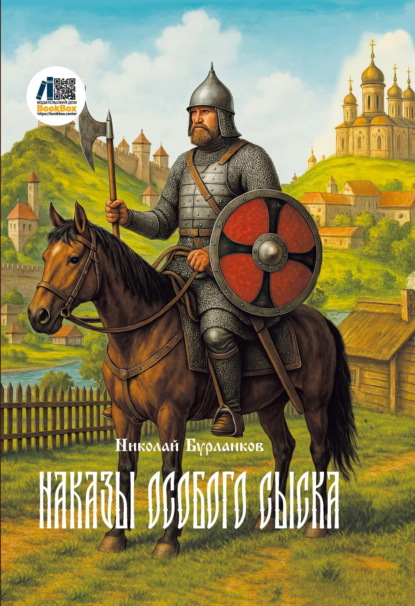
Полная версия:
Наказы Особого сыска
– На будущей седмице, в среду, – откликнулся гость.
– Вот они с тобой и поедут. – Он нагнулся к помощникам и чуть слышно сказал: – Не оплошайте.
Федор Васильевич тоже встал, поклонился хозяину:
– Что ж, пойду я. Дел много надлежит уладить до отъезда, а к новому году – к концу лета – надлежит мне уже быть на своем месте.
– А вы задержитесь, – так же негромко произнес Шеин своим помощникам, провожая гостя.
Когда за будущим вяземским воеводой закрылась дверь, Шеин обернулся к Хилкову и Матвею.
– О вяземском деле я слыхал, – начал он сходу, – и есть там немало темного. Так что вы уж не подведите меня, помогите Федору Васильевичу. Это человек известный, князь Волынский, потомок того самого Волынца, что некогда Димитрию Ивановичу помогал с Мамаем воевать. Мы с ним давние знакомые, он начинал под моим руководством служить, потом разошлись в годы лихолетья, а по возвращении моем он старую дружбу вспомнил. В общем, не торопитесь, проявите смекалку, как проявили в деле с Рябым. Порасспрашивайте людей да и самого князя. Я так думаю, Федор Васильевич неспроста ко мне зашел за советом, знает, что не все чисто в том деле. Ну, ступайте. Раньше осени вас не жду, но как вернетесь – сразу ко мне.
В Москве Матвей остановился у Хилкова: Иван охотно предоставил своему юному другу кров и постой и даже предлагал взять кого-нибудь из слуг в стремянные, но Матвей отказался. Стремянных, конечно, иметь было почетно, а знатные люди брали в стремянные даже многих сыновей из старых родов, но сам Хилков никогда не пользовался их услугами, да и Матвей привык с детства – а детство его как раз пришлось на самое лихолетье – без слуг обходиться.
Потому, когда Федор Васильевич Волынский собрался выступать в дорогу, к его отряду – князь брал с собой человек десять слуг и боевых холопов – присоединились только двое.
– Вы, я вижу, люди скромные, – то ли с насмешкой, то ли со скрытым одобрением кивнул Волынский, оглядев спутников.
– Да, и неприхотливые, – в голос ему ответил Хилков.
Выступили по дороге на Серпухов, откуда по реке думали дойти до устья Угры и вверх по Угре дойти до устья реки Вязьмы, на которой стояла и одноименная крепость – основатели ее насчет названия особо не заморачивались.
– Скажи, князь, а ты верно знаешь, что скоро на Смоленск царь прикажет идти? – спросил Хилков, едущий справа от князя.
Дорога шла широкая, по редкому лесу, день был солнечный, жаркий.
– Так не для того мы его так долго у ляхов отбирали, чтобы просто так им обратно его подарить. Царь наш Василий Иванович сто лет тому назад его трижды пытался забрать, и лишь на третий раз ему это удалось. После чего уж мы за него держались крепко, и кабы не лихолетье, свалившееся на нас, нипочем бы ляхам обратно его не забрать. Вы не видели крепость, что воздвиг там царь Федор Иванович? Вам Шеин про нее не рассказывал? Он ведь там больше года держался против всей польской рати. Так что, думаю я, как разгребем насущные дела – царь новый поход объявит.
– Вот и мне обидно, – кивнул Хилков. – Что ж это такой город да в чужих руках?
– А еще, я так понимаю, тебе хочется ратным делом заняться, а не челобитные разбирать? – усмехнулся Федор Васильевич.
Хилков опустил глаза.
– Ну это еще успеется, не волнуйся, – успокоил его воевода. – На ваш век походов и битв хватит. Еще захотите, чтобы было их поменьше.
– Да и мне кажется, что мы чем-то неправильным занимаемся, – вставил Матвей.
– Любопытное заявление! – не сдержался Волынский. – Это почему же?
Матвей попытался объяснить свою мысль:
– В Писании ведь все сказано, как надлежит жить. Кто не желает так жить – тому будет наказание в грядущей жизни, а «претерпевший же до конца спасется». А мы, получается, пытаемся всех заставить жить по Писанию.
– В Писании сказано, как надлежит жить, но не сказано, что делать с теми, кто так жить не желает, – возразил Волынский.
– Так ничего и не делать! Это уж их совесть и страх. Кто желает спасения – живет по заповедям, кому плевать на всех – не живет, но это его дело. А мы выискиваем тех, кто спасаться не желает, и вроде бы как насильно спасаем.
– Ты был бы прав, – задумчиво отвечал Волынский, – если бы в мире было только два человека: тот, кто живет по заповедям, и тот, кто по ним жить не желает. Ну допустим, что первый, которого ударили по правой щеке, подставил левую. Второй бьет и не думает, что нарушает Божью волю. Но что делать третьему, который видит, что творится несправедливость? Отвернуться? Закрыть глаза, заткнуть уши? Убежать? Молиться, чтобы Господь вразумил обидчика? Разве все это по заповедям? Разве там нет слов о помощи ближнему своему?
– Но почему ты считаешь это несправедливостью, если тот, кого бьют, смиренно переносит побои и не считает, что его бьют незаслуженно?
– А ты откуда знаешь, что он считает? Или это так приятно – получать побои и терпеть оскорбления? То, что он не отвечает – может, из-за соблюдения заповедей, а может, он просто слабее? Что же делать тому, кто видит все это? Ведь если я оказался в этом месте в этот миг – тоже воля Божия; так зачем Он сделал так, чтобы я это увидел? Только чтобы я встал на колени и помолился о прощении грешника? Или все-таки чтобы я остановил несправедливость?
– Не так давно, – Матвей мельком глянул на Хилкова, – я уже слышал про то, что надо бороться с несправедливостью, что раз дана нам сила, то мы ею можем остановить чужую силу… Только слышал я это от разбойника, который грабил купцов и бояр.
Волынский усмехнулся, замолчав.
– Я так думаю, – продолжал Матвей, – церковь говорит, как надлежит жить; она же и дает наказание за нарушение ее заповедей. А уж мы все можем лишь подчиниться.
– Ну да, человек ограбил другого – а ему: сто поклонов, – вставил Хилков, внимательно слушавший спор, но пока не вмешивавшийся. – Да и плевать такой хотел на то, что ему священник скажет.
– И я ведь предлагаю наказывать не по тем представлениям о справедливости, что у какого-то разбойника в голове, – продолжил Федор Васильевич, – а по тем самым заповедям, о которых ты заговорил! О которых все знают и с которыми все согласны, и когда можно показать, что человек и впрямь их нарушил.
– А тот разбойник, между прочим, – добавил Хилков, – оказался очень хорошим человеком. И нас спас, и сам порядок смог навести.
– Хорошие вам разбойники попадаются! Так ты не ответил мне, – напомнил Федор Васильевич, поворачиваясь вновь к Матвею, – что же делать с теми, кто не подчиняется? Кому глубоко все равно, что ему говорят, кто ему говорит, и кто считает себя, любимого, главным человеком во всем мире и ради своих забот и увлечений готов кого угодно убить, зарезать?
– Разве такие люди есть? – удивился Матвей.
– Разные люди есть на свете, – со вздохом отвечал воевода. – Каждый человек склонен себя оправдывать. Даже когда он заповеди нарушает – он ведь не со зла, просто у него выхода другого нет! Вот как же не украсть, если ему есть нечего? А если тот не отдает и сопротивляется – ну как не отнять силой? А коли тот руку поднял – то что же и не убить? Оно вроде как одно за одно, да в итоге душегубства и получаются.
– Так и за что же их наказывать?
– А как ты еще объяснишь человеку, что кроме него в мире и другие люди живут?
– Словами, – ответил Матвей.
– Словами… – усмехнулся Федор Васильевич. – Да ведь слова-то все умеют правильные говорить. Ты ему скажи – он с тобой согласится: верно говоришь, праведно, надо делиться с нуждающимися, надо защищать слабых. Да ведь я сам слабый, это меня надо защищать, это со мной делиться! А уж я в меру своего разумения других заставлю со мной поделиться и прикрыть меня своим телом, чтобы другого за меня убили. И вот так и получается: коли этот человек рожден крестьянином – так становится разбойником; коли купцом – так мошенником и вором; а уж коли боярином – то тут его слугам и соседям не позавидуешь… Он будет брать и отнимать, пока не найдется кто-то, кто поставит ему заслон. Для того ваш Особый сыск и создан государем. Чтобы хоть кто-то окоротил зарвавшихся, кем бы они ни были. Что же ты тут видишь неправильного?
– Но откуда они берутся, люди такие? Разве все рождаются не с Божьей искрой?
Волынский пожал плечами:
– Так ведь это в воле человека, раздуть ту искру или погасить. И все начинается с оправдания себя. Когда начинаешь себе позволять слишком много. А кто уж уследит, что себе человек позволяет? Вроде бы устал – не хочу встать… Ну поваляюсь день в постели – что случится? И иногда вроде бы и правда нужно отдохнуть. Но если отдыхаешь без меры – лентяй получается. Вроде бы не голоден, да вдруг завтра еды не найду – дай наемся сейчас. Пусть кто-то другой страдает. И как оценить, кому больше надо, кому меньше? Ну вот и подают челобитные царю и царским людям – чтобы те разобрали, как оно по правде должно быть. Всегда третий нужен, чтобы разобраться. Может, конечно, и справедливо один другого по щекам бьет – может, первый подлец какой или вор, украл чего у второго. А может, и просто что-то не понравилось второму, и волю он себе дал. И окоротить в этом случае второго – ему же пользу принести! Может, еще одумается да начнет за собой следить.
– Но ведь он начнет только из страха наказания, – разочарованно протянул Матвей. – Где же тут воля Божия?
– А вот тут уж мы точно ничего поделать не можем, – вздохнул Волынский. – Удержать того, кто творит несправедливость, да по-хорошему заставить на своей шкуре прочувствовать, что он другому учинил – это можно. Но влезть к нему в душу да разобраться, почему он перестал творить зло – из страха ли, или понял что-нибудь, – это не в нашей власти.
– Ну и что за радость жить в государстве, где все праведные из страха? – Матвей поднял на князя грустные глаза.
– А ты как бы хотел – чтобы все от рождения были праведниками? Ну и смысл тогда и Христовой жертвы, и наказания посмертного? Ежели всем на роду написано либо спастись, либо погибнуть? Всякое деяние имеет смысл, если можно поступить и по-другому. А коли выбора нет – то какой и спрос? Вот коли ты можешь сотворить зло, но удерживаешь себя от этого – вот тут тебе хвала. А не желаешь удержать – тут тебе наказание. А коли ты и не можешь зла сотворить – где тут твоя заслуга?
– Но коли наказание он уже получил в этом мире – в грядущем с него спросу тогда быть уже не должно, – возразил Матвей. – Нельзя же дважды за одну вину наказывать!
– Как там и за что в грядущем с него спросят – про то мы не ведаем. А наказываем, чтобы исправился он да задумался, а не ради искупления его вины. А то многие так мыслят: ну пострадал, так и все, дальше можно то же творить. Да и в нашем мире жить праведно из страха грядущего наказания – считаешь, лучше, чем из страха наказания человеческого? Я так думаю, человек не должен грешить не потому, что свою душу погубит, – а потому, что другим людям он зло учиняет! Ведь как сказано: «Все, что сделали вы одному из малых сих, вы Мне сделали». Вот коли научишься чужую боль чувствовать, считать людей, живущих в одной с тобой земле, как нечто единое с тобой целое, единую душу Божью – вот тогда душа твоя и станет истинно человеческой. Достойной царства Божьего. А до той поры… – князь махнул рукой. – Вот и получается, – продолжал он, помолчав, – что человек сам свою душу складывает. Своими деяниями. И судить его будут за то – к чему стремился, что из себя сделал. Не важно, великий человек или малый. Но коли помогал другим, коли останавливал несправедливость – за то и награда будет. А возомнил себя пупом земли – так и наказание положено. Хотя, коли бы я сам был Творцом – да простится мне такое святотатство, – он усмехнулся лукаво, – я бы дал людям в виде наказания или награды – возможность на себе испытать плоды их деяний. И коли прожил праведно – получи плоды из собственной руки. А нет – ну и испытай то, что с другими творил, на своей шкуре…
Матвей покачал головой, не до конца убежденный, но они подъехали к месту привала, и разговор прервался.
Глава 2
В Вязьме
Вязьма – небольшой опрятный городок, чистый, ухоженный – с давних пор находился почти в самом средоточии борьбы самых разных сил. Через него прокатывались рати Ольгерда, идущие на Москву, и рати Ивана Калиты и Василия Третьего, идущие на Смоленск; неподалеку, к северо-западу от города, разыгралась печальная битва под Клушино, погубившая царя Василия Четвертого, – а примерно на таком же расстоянии к юго-западу было памятное Стояние на Угре, спасшее царя Ивана Третьего.
Однако саму Вязьму бури, бушевавшие вокруг нее, казалось, не задевали вовсе. После Клушинской битвы тут ненадолго воцарились поляки, но после освобождения Москвы без сопротивления уступили ее подошедшему Пожарскому. Жизнь в городе текла спокойно и неторопливо, даже шайки, свирепствовавшие под Смоленском и Калугой, сюда не захаживали; и потому гибель воеводы, да еще, говорят, не просто гибель, а убийство – было событием небывалым.
Князь Федор Васильевич Волынский, едва разместившись в хоромах вяземского воеводы, тут же отправил приглашения всем окрестным боярам и дворянам явиться для знакомства. Помощникам же Шеина предоставил полную свободу действий.
Иван Хилков, как заметил Матвей, при князе несколько робел и старался во всем с ним соглашаться. Но, получив право действовать по своему усмотрению, тут же развил бурную деятельность – должно быть, боялся ударить в грязь лицом. Он самолично обошел всех обитателей воеводских хором, опросил, кто что знал, что с воеводой случилось и когда.
Правда, по словам разных людей выходило по-разному.
Так, стряпуха на поварне рассказывала Ивану, какой ее погибший хозяин был добрый, ласковый, обходительный, никому дурного слова не скажет, и мужики, и купцы, и бояре его любили и уважали. Конюх Тихон соглашался, что хозяина уважали, но говорил, что, напротив, человек тот был строгим, спуску никому не давал, за что и порешили его.
Но самым странным было то, что и о самой гибели воеводы говорили совершенно разное. Постельничий уверял, что хозяина принесли из лесу, куда он отправился на охоту, с проломленной головой. Конюх же, напротив, говорил, что хозяина нашли мертвым в изложне.
– Коли в спальне нашли – так с чего взяли, что его мужики порешили? – удивился Иван.
– Так ить… – Конюх задумался, но ненадолго. – Его ведь не после сна нашли. Он уж проснулся, но была у него привычка с самого раннего утра дела прямо в изложне решать.
– А что жена на это говорила? – сдерживая усмешку, нахмурился Хилков.
– Так жена у него в имении осталась, он там наездами бывал.
– То есть жил один? – уточнил Иван на всякий случай.
– Один как перст, – конюх для убедительности зачем-то предъявил распроссчикам свой палец.
– Кого же он в изложне принимал?
– Так вот как раз явились к нему просители из деревни. Потом ушли. А к нему заходят – а он мертвый, – конюх перекрестился, а потом на всякий случай поплевал через левое плечо.
– И что, нашли тех мужиков?
– Нет. И челобитной от них, по которой воевода-то их принимал, тоже не сыскали.
– Понятно. А кто же был с воеводой, когда его нашли?
– Да я не упомню. Меня-то там не было, – честно признался Тихон.
– Ну будь здоров, добрый человек! – простился с конюхом Иван и в сопровождении Матвея отправился в писарскую избу.
– Ну как такое может быть? – удивлялся Матвей. – Не может же быть, чтобы разом воеводе и в лесу голову проломили, и в спальне?
– Очень просто, – пожал плечами Хилков, обретая былую уверенность. – Никто ничего толком не знает, все что-то слыхали, остальное додумали, а уж что слышали, что додумали, теперь сами не разберут. Так что вполне может статься, что и не в спальне, и не в лесу, а где-нибудь в подвале ему голову проломили.
Он посмотрел на Матвея пристально.
– А может, и не мужики.
– Что ты хочешь сказать? – не понял Матвей.
– А то, что никто из тех, кого мы расспрашивали, сам при том не присутствовал. Но знает от кого-то. И что мужики взбунтовались и воеводу убили – тоже кто-то слух пустил. При том что были ли какие-то мужики, что с воеводой повздорили, или нет – никто не знает. И я так понимаю, есть два слуха. Один – что мужики взбунтовались и убили воеводу, когда он на охоту поехал. И второй – что нашли его в спальне. Ясно, что никто бы бунт учинять в хоромах не стал – отсюда и живым бы не ушел. И скорее всего, правда – что нашли его в спальне. А вот кто пустил слух, будто с охоты его принесли уже мертвым, – он-то и причастен к злодейству.
– А почему тогда постельничий считает, что его принесли из леса? Он-то уж должен бы знать, что в опочивальне хозяйской происходило!
– Ну тогда, вероятно, я прав, и про спальню тоже слух пустил кто-то. И вот этот-то человек нам и нужен.
– Разумно, – согласился Матвей.
– Надеюсь, хоть про голову правда, – с надеждой сказал Хилков. – А то окажется, что умер человек сам, от старого недуга, а мы приехали, розыск учиняем, как дураки…
Они подошли к писарской избе, где создавались наказы, памятки, челобитные, расспросные листы и прочие грамоты, совершенно непонятно зачем нужные в обычной жизни, но без которых никакое государство не мыслит своего существования.
Писарь – сутулый мелкий дьячок, еще молодой, но уже лысеющий, сидевший за большим, заваленным грамотами столом у окна – вскочил и поклонился прибывшим боярам.
– Приветствую вас, господа, – в голосе его, однако, большого почтения не чувствовалось.
– Скажи-ка нам, – Хилков вполоборота уселся на лавку возле стола писаря, – друг мой, а что, расспрашивали кого-то по делу о смерти воеводы Головина?
– А как же, – писарь бросился обратно к столу, зашелестел бумагами, что-то разыскивая. – Многих опрашивали, и расспросные листы составляли. Вот они, – он протянул Хилкову пачку листов потрепанной бумаги.
– Скажи, – Хилков уже углубился в чтение и говорил, не поднимая головы, – а кто из слуг старого воеводы уехал?
– Так ведь… – Писарь задумался. – Слуги-то все на месте. Они все не головинские, а воеводские, то бишь государевы люди. Вот токмо он стремянного своего привозил, так тот уехал вместе с телом покойного воеводы, повез в его вотчину хоронить.
– А стремянный у него кто?
Писарь опять пошелестел бумагами.
– Дмитрий Михайлов сын Потапов, дворянин. К слову, из нашей волости, с запада. У него поместье неподалеку от Клушино.
– Вот как! – Хилков оторвался от чтения и поглядел на писаря. – А сам-то Головин откуда?
– Он откуда-то из новгородских или псковских бояр. Надо посмотреть, – он хотел опять полезть в записи, но Иван его удержал.
– А почему Головин своих слуг не привез?
– Так ведь тут, когда поляки три года назад подступали и государь нового воеводу прислал, ему не до того было, чтобы стряпух да постельничих тащить, он и взял местных. А потом как-то прижились, понравились они ему.
– Значит, из его людей был один стремянный, и тот тоже почти местный? – еще раз уточнил Хилков и поднялся. – Благодарю за службу.
Писарь опять вскочил, кланяясь, а Хилков потащил Матвея к выходу из избы.
– Ну что там в записях было? – спросил Матвей, когда они вышли за дверь.
– Да там ничего особенного, – отмахнулся Хилков. – Никто ничего не видел, не знает, не помнит… А вот что стремянный – тоже местный, но уехал, да еще провожать тело убиенного…
– Что ж тут такого? – возразил Матвей. – Стремянный – ближайший человек для любого боярина.
– Вот именно, – Хилков таинственно понизил голос. – Сам подумай, кому еще проще всего и подстеречь воеводу в нужное время, чтобы не заподозрили, – и потом слухи пустить? Кто же не поверит человеку, с которым воевода приехал? А вот хоть он и местный, но уехал и назад не вернулся…
– Но на что это ему?
– Ну мало ли… – Хилков пожал плечами. – Я так думаю, надо нам этого стремянного найти да расспросить. До Клушина дня два пути; мы могли бы завтра поутру выехать и послезавтра уже добраться к вечеру.
Они отправились к воеводе, руководившему слугами, затаскивавшими добро нового хозяина и расставлявшими его по хоромам. Впрочем, добра, привезенного Федором Васильевичем, было немного, и больше его волновало, что делать с наследием воеводы прежнего, а также где кого разместить.
– А вот и вы! – приветствовал он представителей Особого сыска. – Что-нибудь уже накопали?
– Да нам, как видно, придется уехать дней на пять, – Хилков переглянулся с Матвеем.
– А зачем, коли не тайна?
– Надо нам навестить бывшего стремянного Головина, у него имение под Клушиным. Дмитрия Потапова.
– Так он третьего дня сам прибыть сюда должен, – вспом-нил воевода. – Я ведь разослал весточки всем, кто с прежним воеводой служил – и избранным дворянам, и сотникам, и стольникам, – чтобы прибыли да со мною службу продолжили. Ну и этого вспомнил. А на что он вам?
– Да вот как приедет, так и поговорим, а до того уволь, – отказался от разговора Иван.
– Как знаете. Надо мне вас пока разместить где-нибудь. Сам-то я человек походный, но привык жить на широкую ногу, и чтобы гости мои ни в чем недостатка не знали. Тебе, Иван, предлагаю светелку в правом крыле, над поварней.
Иван поклонился.
– Сам я займу горницу над повалушей. А тебя могу поселить в бывшей изложне воеводы, – предложил Федор Васильевич Матвею.
В душе Матвея схватились страх и стыд: страх ночевать в комнате, где умер воевода, – и стыд признаться, что он боится. В конце концов стыд победил, и Матвей равнодушно кивнул:
– Как скажешь.
– А сам ты почему спальню воеводы не займешь? – спросил Хилков.
– Да ну нет, она уж больно далеко от входа, – отмахнулся воевода. – Пока встанешь да до крыльца доберешься – время обеда подступит. Вы гости, вам торопиться не надо, а мне в дела пора вникать.
Хилков выразительно посмотрел на Матвея.
– Вот мы тогда сейчас и поселимся, где ты нам указал.
Он почти силой потащил приятеля в сторону воеводской спальни.
– Ты понимаешь, что, коли она так далеко от входа, любой входящий должен был десять раз на глаза всем слугам попасться? – негромко спросил он.
– Да, и коли там обычно тихо – так и шум не могли не услышать, – согласился Матвей.
После переходов и лестниц они наконец поднялись в изложню воеводы, где, по предположению Хилкова, его и нашли.
Войдя, Матвей ахнул. Светелка прямо сияла роскошью. Беленые стены точно светились. Изразцовая голландская печь стояла в дальнем углу, в ногах широкой греческой кровати, застеленной шелковым покрывалом. На стене возле ложа висел ковер, и другой ковер – толстый, судя по вышивке, персидский – лежал у самой кровати.
– Да, богато человек жил, – Хилков огляделся с легкой завистью. – Повезло тебе!
– Можем поменяться, – усмехнулся Матвей.
– Что – привидений боишься? – предположил Иван и на сей раз попал почти в самую точку. – Да не бойся, я так думаю, все-таки не здесь его убили. Нечего его духу тут шляться.
– Да я не боюсь! – вспыхнул Матвей.
После такого меняться стало немыслимо, и он решительно устроился в комнате покойного воеводы.
Среди ночи, однако, что-то его разбудило. Сперва ему показалось, что в комнате ужасающе душно. Он распахнул ставни – за окном, застекленным наборным венецианским стеклом, чернела глубокая ночь. Чуть шелестели листья, где-то стрекотали кузнечики.
Матвей вновь улегся – и понял, что все тело невыносимо зудит. Вскочив, он оглядел постель – и понял, что она кишит клопами.
Клопы, конечно, встречались порой и в проезжих домах, и даже в хоромах – но такого их количества Матвею видеть до сих пор не приходилось. Они явно чувствовали себя в постели воеводы хозяевами, и всякого, собирающегося тут переночевать, рассматривали своей законной добычей.
Матвей сражался с ними до света, пока узкий край восходящего солнца не появился в стекле; тогда, не выдержав превосходящих сил противника, Матвей наконец бежал с поля боя.
Спустившись на двор, он долго смывал с себя следы ночной битвы.
К нему с вышитым рушником подошел постельничий. На лице его читалось участие.
– Что ж вы клопов-то не выведете? – обратился к нему Матвей вместо доброго утра.
Пожилой слуга изобразил на лице торжественную печаль:
– Много раз пытались. Ничего их не берет.
– А как там воевода спал?
– Да он редко там ночевал. Только когда совсем на ногах стоять сил не было. Да и то, чуть свет – на ногах, и все дела какие-то решает. А так все больше в разъездах да по гостям.
– Но откуда у вас взялась эта напасть?
Постельничий с охотой принялся рассказывать:
– Как раз после падения Смоленска появился у нас пан Госевский и занял воеводские хоромы. Узнав, что они отапливаются по-черному, пан заявил, что это дикость и отсталость, и повелел устроить новую печь с голландскими изразцами. Пан, правда, вскоре уехал, а печь осталась, и, когда вернулись наши, новый воевода очень гордился своим приобретением и всем эту печь показывал. Правда, вскоре оказалось, что, когда топили по-черному, было, конечно, смрадно, но зато не водились клопы. Уж не знаю, почему – может, вымораживало их зимой, когда окна после топки открывали, а, может, дыма они не выносили, но только мы от них не страдали. Зато новая печь понравилась не только воеводе, но и клопам, и теперь от них сладу нет. А ломать печь жалко – все-таки дорогая вещь, заграничная.

