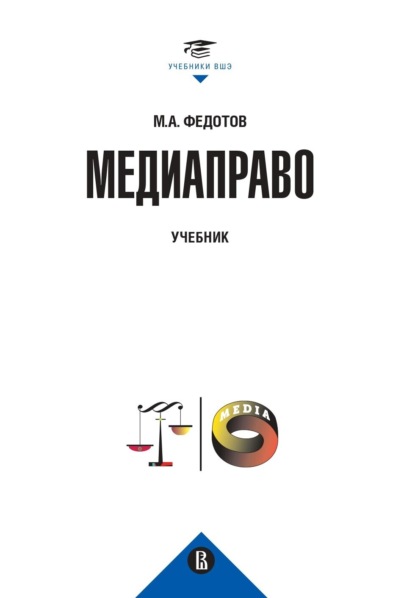
Полная версия:
Медиаправо: доктрина, законодательство, правоприменение
Несмотря на противодействие Главлита СССР (подробнее об этом см. в § 3.2), осуществлявшего тотальную предварительную цензуру в стране, 14 октября 1988 г. инициативный авторский проект был опубликован в Таллине в спортивной газете Spordileht на эстонском языке, после чего неоднократно перепечатывался в советских газетах, журналах и даже издавался отдельной брошюрой за счет средств авторов[55].
На I Съезде народных депутатов СССР инициативный авторский проект был внесен группой парламентариев в качестве законодательной инициативы и стал концептуальной основой Закона СССР от 12.06.1990 «О печати и других средствах массовой информации». Рабочую группу, которой было поручено довести проект Закона о печати до пленарного заседания, возглавил народный депутат из Чувашии Н. В. Федоров[56].
Впоследствии он так характеризовал процесс работы над проектом «трех мушкетеров»: «Не могу сказать, что документ на всех производил неизгладимое впечатление. Соглашусь с тем, что в нем было много хороших идей, но дело портили многословие и большое число заумных двусмысленных формулировок. …Конечно, рабочая группа в своем абсолютном большинстве и не предполагала, какие страсти кипят наверху. Мы нервничали, поскольку подобный закон принимался в стране впервые, легко было напортачить. Но вот рабочий вариант готов, можно его предлагать для обсуждения депутатам. …А далее произошло чистой воды жульничество. Первое чтение законопроекта ожидалось 24 ноября 1989 года, но накануне депутаты внезапно получили какой-то текст, почти не отличавшийся от нашего варианта. Но при внимательном рассмотрении обнаруживались виртуозно внесенные микроскопические поправки, которые меняли суть основополагающих статей. …Естественно, в такой ситуации авторы законопроекта испытывали обоснованное беспокойство, понимая, что победа может обернуться поражением в любое мгновение, лишь только власти осознают опасность, которую закон несет дряхлеющему советскому режиму. …Однако законотворческий экспресс уже набрал скорость. Ряды сторонников закона множились на глазах. …Характерно, что 12 июня предлагали даже объявить Днем празднования свободы слова. Будь решение принято, отмечали бы памятную дату вместе с Днем России»[57].
Именно в этот день, 12 июня 1990 г., в Московском Кремле свершился исторический «двойной прыжок» России к свободе и демократии: в Большом Кремлевском дворце Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации, а в так называемом 14-м корпусе Кремля Верховный Совет СССР – Закон о печати. Так новая российская государственность и свобода массовой информации впервые соединились в истории.
Структура Закона о печати включала в себя семь глав и 39 статей. Первая глава содержала общие, наиболее важные положения: правовое содержание свободы печати (ст. 1), понятие массовой информации и производное от нее понятие СМИ (ст. 2), правовой статус редакции СМИ (ст. 4), недопустимость злоупотребления свободой массовой информации (ст. 5), состав союзного и республиканского законодательства о СМИ (ст. 6). Несколько странно выглядела здесь ст. 3 «Язык средства массовой информации», появление которой можно объяснить только развернувшимися в конце 1980-х – начале 1990-х годов острыми политическими дискуссиями по вопросу о статусе языков титульных наций в союзных и автономных республиках. Вторая глава закона касалась организации производства и выпуска СМИ, третья – порядка распространения массовой информации, четвертая – отношений редакций СМИ с гражданами и организациями, пятая – прав и обязанностей журналистов, шестая – международного сотрудничества в области массовой информации, седьмая – ответственности за нарушение законодательства о печати и других средствах массовой информации.
Принятие союзного Закона о печати положило начало отечественному законодательству о СМИ. Разрушительная для тоталитарной системы сила данного правового акта таилась прежде всего в ст. 4 и 7. Так, ст. 7 устанавливала, что «право на учреждение средства массовой информации принадлежит Советам народных депутатов и другим государственным органам, политическим партиям, общественным организациям, массовым движениям, творческим союзам, кооперативным, религиозным, иным объединениям граждан, созданным в соответствии с Законом, трудовым коллективам, а также гражданам СССР, достигшим восемнадцатилетнего возраста».
Воспользовавшись этой нормой, трудовые коллективы редакций целого ряда существовавших на тот момент изданий заявили себя в качестве учредителей и представили свои газеты и журналы на регистрацию в Министерство печати и массовой информации РСФСР. Первым рискнул стать самостоятельным журнал «Октябрь» – его трудовой коллектив получил свидетельство о регистрации № 1. Его примеру последовали другие «толстые» литературные журналы: «Знамя» (№ 20), «Иностранная литература» (№ 25), «Волга» (№ 61), «Дружба народов» (№ 73), «Юность» (№ 112), «Новый мир» (№ 138), «Урал» (№ 225), «Звезда» (№ 383) и т. п. Так начался распад взаимосвязанных издательских империй КПСС, ВЦСПС[58], ВЛКСМ[59] и проч.
Обратим внимание также на норму, содержавшуюся в ст. 4 Закона о печати. Она устанавливала: «Редакция средства массовой информации является юридическим лицом, действующим на основании своего устава». Ей корреспондировала норма ч. 1 ст. 16: «Редакционный устав средства массовой информации принимается на общем собрании журналистского коллектива редакции большинством голосов при наличии не менее двух третей ее состава и утверждается учредителем». Именно эти нормы позволили многим редакциям, существовавшим ранее лишь в качестве внутренних подразделений партийных издательств, стать самостоятельными юридическими лицами. Естественно, выделяясь из состава издательств, эти редакции получили юридическую возможность требовать составления разделительного баланса, поскольку всякое юридическое лицо должно иметь обособленное имущество. В результате многие газетно-журнальные издательства КПСС постепенно превратились из фактических издательских домов в предприятия по эксплуатации зданий, сдающие помещения редакциям в аренду.
Впрочем, некоторые издания лишились права требовать свою долю в имуществе издательств после подавления попытки государственного переворота (ГКЧП) в августе 1991 г. Известно, что Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина от 22.08.1991 № 76 «О деятельности ТАСС, Информационного агентства “Новости” и ряда газет по дезинформации населения и мировой общественности о событиях в стране» приостановил выпуск газет «Правда», «Советская Россия», «Гласность», «Рабочая трибуна», «Московская правда» и «Ленинское знамя» как изданий КПСС. Спустя неделю все эти издания были заново учреждены их трудовыми (или журналистскими) коллективами и в этом качестве зарегистрированы (подробнее об этом см. в § 3.2).
Впоследствии редакция «Правды» пыталась в судебном порядке доказать, что «имущественные, финансовые и другие права» прежней газеты «перешли к новому учредителю – первичной журналистской организации “Правды”». При этом истец ссылался на устав редакции, где говорилось, что редакция создана 5 мая 1912 г. Однако, как говорилось в том же уставе, сама газета учреждена лишь 29 августа 1991 г. С точки зрения Закона о печати такое было абсолютно невозможно, поскольку редакция осуществляет свою деятельность только после регистрации СМИ (ч. 1 ст. 8). Отсюда следовало, что редакция независимой общественно-политической газеты «Правда» никак не может быть правопреемником редакции печатного органа ЦК КПСС, газеты «Правда» (подробнее см. в гл. 6).
ЗаконодательствоЗакон РФ от 27.12.1991 «О средствах массовой информации»: история его создания, структура и значение.
Закон РФ от 27.12.1991 «О средствах массовой информации»: история его создания, структура и значение. Союзный Закон о печати проработал в России около полутора лет. 27.12.1991 ему на смену пришел Закон РФ «О средствах массовой информации», ставший средством его конкретизации и дальнейшей демократизации. Как и союзный, российский закон родился из инициативного проекта тех же авторов[60]. При этом Закон о СМИ отличался от Закона о печати прежде всего тем, что он практически дословно воспроизводил текст авторского проекта, тогда как союзный – приблизительно на три четверти.
В процессе прохождения законопроекта в Верховном Совете РФ различными субъектами права законодательной инициативы было внесено 79 поправок, 26 из которых были учтены. На стадии окончательного принятия, 19.12.1991, получили одобрение еще несколько поправок, в том числе две, резко снижавшие гарантии свободы массовой информации. Одна из них касалась ст. 41 «Конфиденциальная информация» и обязывала редакции СМИ раскрывать источник доверительной информации по требованию не только суда, но также прокурора, следователя и лица, производящего дознание.
Вторая поправка изменяла содержание ст. 50 «Скрытая запись» с точностью до наоборот, устанавливая полный запрет на использование журналистами скрытой видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки.
Принятые поправки вызвали возмущение в обществе. Как пишет В. Т. Захарько, в газете «Известия» было опубликовано открытое письмо авторов законопроекта, в котором они призывали Верховный Совет РСФСР отказаться от принятых поправок. «Мы не ограничились публикацией этого письма. Оно сопровождалось острым редакционным комментарием. Участие газеты в отстаивании авторского варианта Закона о СМИ не было напрасным – Ельцин не подписал принятый депутатами документ, и со временем он был очищен от ранее навязанных ему поправок»[61]. Действительно, в последний день осенней сессии парламент вернулся к рассмотрению Закона о СМИ, чтобы практически без дискуссий отменить обе поправки. Вот почему Закон о СМИ, принятый 19.12.1991, датируется 27.12.1991.
Структура российского Закона о СМИ, действующего уже более тридцати лет, построена на основе союзного Закона о печати, что неудивительно, учитывая общность предмета правового регулирования и неизменность авторского коллектива создателей обоих законопроектов. Как и союзный Закон о печати, российский Закон о СМИ открывается главой «Общие положения», которая включает в себя статьи, определяющие правовое содержание свободы массовой информации (ст. 1), тезаурус закона (ст. 2), недопустимость цензуры (ст. 3), недопустимость злоупотребления свободой массовой информации (ст. 4), состав законодательства о СМИ (ст. 5), сферу применения Закона о СМИ (ст. 6), государственную информационную систему в сфере СМИ (ст. 6.1). Логика построения второй и последующих глав Закона о СМИ в основном та же, что и в союзном Законе о печати: организация производства и выпуска СМИ, порядок распространения массовой информации, отношения редакции СМИ с гражданами и организациями, права и обязанности журналиста, межгосударственное сотрудничество в сфере массовой информации и, наконец, ответственность за нарушение законодательства о СМИ.
За три десятилетия действия Закона о СМИ его структура несильно изменилась. Во-первых, в 2011 г. глава III «Распространение массовой информации» была дополнена значительным объемом нормативного материала, касающегося лицензирования телерадиовещания. Во-вторых, в 2016 г. в Законе о СМИ появилась новая глава II.1 «Исследования объема аудитории». В-третьих, в 2021 г. глава VII обогатилась положениями, касающимися федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ о СМИ, в связи с чем ее название было изменено.
Значение Закона о СМИ выходит далеко за рамки правового регулирования массовых коммуникаций. Есть основания считать его инновационным, положившим начало ряду новаций в отечественной юридической науке и законодательной практике.
Во-первых, сегодня практика разработки авторских законопроектов, их концепций не только охватила многие сферы законодательства[62], но и привела к появлению в гражданском законодательстве специальной нормы, закрепляющей авторские права на проекты официальных документов (ст. 1264 ГК РФ).
Во-вторых, отметим наличие в Законе о СМИ специальной статьи, содержащей максимально полный тезаурус нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере. Данный прием законодательной техники сразу же получил широкое распространение в отечественном законодательстве. Достаточно сказать, что за период между принятием Закона о СМИ и Конституции РФ 1993 г. в стране были приняты более двух десятков законов, содержащих специальные статьи об основных понятиях в соответствующих отраслях и подотраслях законодательства. Причем в подавляющем большинстве случаев эти статьи были построены по той же логической схеме, что и в Законе о СМИ: от общего к частному. Практика законодательного закрепления тезауруса в отдельной статье еще более упрочилась в последующие годы и на сегодняшний день нашла отражение в более чем трехстах федеральных законах.
В-третьих, важной новацией Закона о СМИ стал кумулятивный принцип возложения ответственности, почерпнутый из уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях и впервые примененный в отношении злоупотребления свободой массовой информации. Идея кумулятивного возложения ответственности попала позднее в законодательство о противодействии экстремизму. Так, ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» предусматривает возможность ликвидации общественного или религиозного объединения в случае повторного в течение 12 месяцев выявления фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма в их деятельности. Аналогичное правило касается и средств массовой информации. Нашлось место институту кумулятивного возложения ответственности и в Жилищном кодексе РФ (ст. 91.10 ЖК РФ).
В-четвертых, Закон о СМИ впервые применил метод табуирования наименований (названий). Эта правовая модель впоследствии была применена законодателем для регулирования деятельности некоммерческих организаций и общественных объединений. В наиболее яркой форме идея табуирования названий проявляется в запрете упоминать в СМИ без соответствующей маркировки экстремистские, террористические и нежелательные организации, а также так называемых иностранных агентов. Отсутствие соответствующей маркировки КоАП РФ рассматривает как административное правонарушение (ч. 2, 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ), а Закон о СМИ – как злоупотребление свободой массовой информации (ст. 4).
В-пятых, важной новацией Закона о печати, развитой Законом о СМИ, стало появление правовой нормы о возмещении морального вреда. Ранее отечественное законодательство не знало понятия морального вреда. Тот факт, что данная категория впервые появилась именно в законе, регулирующем деятельность СМИ, объясняется, видимо, тем, что в условиях гласности участились случаи конфликтов по поводу публикаций, затрагивавших честь и достоинство граждан, а постепенный переход к рыночной экономике логично поставил вопрос о компенсации морального вреда в денежной форме. На сегодняшний день институт компенсации морального вреда, зародившийся именно в законодательстве о СМИ, в достаточной степени укоренился в гражданском законодательстве (ст. 12, 151, 1099–1101 ГК РФ) и правоприменительной практике.
В-шестых, Закон о печати и Закон о СМИ первыми закрепили свободу массовой информации и запрет цензуры. Из законодательства о средствах массовой информации эти нормы, собственно, и перешли в Конституцию РФ (ч. 5 ст. 29).
В-седьмых, именно в Законе о печати и в Законе о СМИ впервые в отечественном законодательстве появилась норма, выводящая определенную категорию лиц за пределы ответственности за отказ от дачи показаний. Институт освобождения от ответственности за отказ от дачи показаний перешел из законодательства о СМИ, в частности, в законодательство о свободе вероисповедания, где конкретизировался в следующей норме: «Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может допрашиваться или давать объяснения кому бы то ни было по обстоятельствам, которые стали известными из исповеди гражданина»[63]. В дальнейшем ст. 51 Конституции РФ генерализировала этот принцип: «Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания».
Наконец, в-восьмых, среди новаций, привнесенных Законом о СМИ в отечественную правовую систему, назовем институт «относительной привилегии», предусматривающий перечень оснований для освобождения редакции, главного редактора, журналиста от ответственности в случае диффамации, злоупотребления свободой массовой информации и еще целого ряда нарушений законодательства о СМИ. Позднее, вслед за Законом о СМИ, идея «относительной привилегии» нашла применение и в других законодательных актах, попав, в частности, в Налоговый кодекс РФ (применительно к налоговым агентам, ст. 81, 123 и др.), в Трудовой кодекс РФ (применительно к работодателям, ст. 84.1), в Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» (применительно к изготовителям товаров, ст. 13, 14, 35) и т. д.
§ 1.3. Система законодательства о массовых коммуникациях
ДоктринаЗаконодательство РФ о массовых коммуникациях: сложности определения понятия. Структурообразующий характер Закона о СМИ в системе законодательства о массовых коммуникациях. Пробелы и избыточные нормы в законодательстве о массовых коммуникациях.
Законодательство РФ о массовых коммуникациях: сложности определения понятия. В современной юриспруденции под законодательством понимается обычно «вся совокупность законов, действующих в стране». Причем «в некоторых формулировках нормативных актов под термином “законодательство” понимаются не только законы, но и другие нормативные документы, содержащие первичные правовые нормы (например, нормативные указы Президента Российской Федерации, нормативные постановления Правительства)»[64]. Однако, как узнать, в каких случаях что конкретно следует понимать под «законодательством Российской Федерации»? При ближайшем рассмотрении данное понятие расплывается и теряет свою определенность.
Во-первых, оно может охватывать только федеральные законы. Например, ст. 2 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» дает закрытый перечень федеральных законов, определяющих полномочия, порядок образования и деятельности федеральных судов общей юрисдикции.
Во-вторых, оно может помимо федеральных законов включать в себя и другие нормативные правовые акты федерального уровня.
В-третьих, в определенных случаях понятие «законодательство» подразумевает федеральные законы и законы субъектов Федерации. Так, п. 2 ст. 3 Семейного кодекса РФ гласит: «Семейное законодательство состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов… а также законов субъектов Российской Федерации».
В-четвертых, данное понятие может означать все нормативные правовые акты, принимаемые представительными органами публичной власти. Именно так построено бюджетное законодательство РФ: согласно ст. 2 Бюджетного кодекса РФ, оно состоит из федеральных законов, законов субъектов Федерации и муниципальных правовых актов.
Наконец, в-пятых, под «законодательством» можно понимать все действующие в нашей стране нормативные правовые акты, включая ведомственные, локальные и иные.
Рассмотрим в этом контексте определение, данное в ч. 1 ст. 5 Закона о СМИ: «Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации». Представляется, что сюда относятся как минимум все нормативные правовые акты, изданные федеральными органами государственной власти и содержащие нормы медиаправа: законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и т. д.
Что же касается актов регионального законодательства и муниципального нормотворчества, то здесь есть место для юридических дискуссий. Для этого обратимся прежде всего к первоначальной версии ч. 1 ст. 5 Закона о СМИ. Она гласила: «Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним других законодательных актов, законодательства о средствах массовой информации республик в составе Российской Федерации». Отсюда следует, что законодатель с 1991 по 2004 г. (в 2004 г. была изменена диспозиция данной нормы) однозначно включал законы субъектов Федерации, содержащие нормы медиаправа, в систему законодательства о СМИ. Конечно, нужно учитывать, что данная юридическая формулировка появилась еще за два года до принятия Конституции РФ 1993 г. и, следовательно, подлежала уточнению с учетом равенства всех субъектов Федерации (ч. 4 ст. 5 Конституции РФ).
Однако изменение данной формулировки ч. 1 ст. 5 Закона о СМИ было связано, как представляется, не с необходимостью привести закон в терминологическое соответствие с Конституцией РФ, а с желанием обнулить меры экономической поддержки СМИ, введенные в 1995 г. и даже сохранившиеся после дефолта 1998 г. Ничем иным нельзя объяснить тот факт, что формулировка ч. 1 ст. 5 Закона о СМИ была изменена именно печально знаменитым Законом № 122-ФЗ от 22.08.2004, вошедшим в историю под названием «закон о монетизации льгот». Тем же законом были признаны утратившими силу принятые в 1995 г. федеральные законы «О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации» и «Об экономической поддержке районных (городских) газет», которые – при всех своих несовершенствах – помогали российским медиа преодолеть неизбежные трудности радикальных экономических реформ.
Рассмотрим этот вопрос в общем контексте разграничения предметов ве́дения между Федерацией и ее субъектами. Пункт «и» ст. 71 Конституции РФ в изначальной редакции устанавливал, что к исключительной компетенции РФ относятся «федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь». В результате конституционной реформы 2020 г. эта формула приобрела следующий вид: «федеральные транспорт, пути сообщения, информация, информационные технологии (курсив мой. – М. Ф.) и связь». В то же время п. «е» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ относит общие вопросы культуры к совместной компетенции РФ и ее субъектов, а ст. 4 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-I относит сюда «телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части создания и распространения культурных ценностей». В сферу совместной компетенции попадает и административное законодательство (п. «к»). Следовательно, законодательство о массовых коммуникациях по необходимости распадается на три сегмента, в первом из которых реализуется исключительное ве́дение Федерации, во втором – совместное ве́дение, в третьем – исключительное ве́дение субъектов Федерации.
В Конституции РФ не детализируется, что подразумевается под категориями «федеральные… информация, информационные технологии и связь». Как справедливо отмечает А. Г. Дейнеко, «синтаксически прилагательное “федеральные” относится ко всей цепочке терминов, от транспорта до связи. И если применительно к транспорту законодательство предусматривает разделение транспортных систем на федеральные и региональные, то в отношении информации это сделать практически невозможно. Информация, согласно гражданскому законодательству РФ, не является объектом гражданских прав (что само по себе небесспорно), а следовательно, не может принадлежать в частноправовом смысле ни Российской Федерации, ни ее субъектам. Законодательство субъектов Российской Федерации вообще не содержит дефиниции термина “региональная информация”»[65].
Хотя в законодательстве действительно отсутствует деление на «федеральную» и «региональную» информацию, можно предположить, что законодатель в данном случае имеет в виду федеральные медиа, регулировать функционирование которых даже практически невозможно на уровне регионов. Для примера зададимся вопросом: сможет ли орган государственной власти субъекта РФ обязать федеральную телекомпанию не показывать передачи эротического характера в то или иное время, да еще с учетом многочисленности часовых поясов в России? Несмотря на то что подобное предусмотрено ч. 2 ст. 37 Закона о СМИ, это практически нереализуемо. В то же время аналогичное требование, адресованное региональному вещателю, ретранслирующему федеральный телеканал, имеет все шансы быть реализованным.
Что же касается региональных массовых коммуникаций, например местных газет, то здесь нужно признать исключительную компетенцию субъектов РФ, поскольку ст. 72 Конституции РФ не указывает «региональные информацию и связь» среди предметов совместной компетенции.
Не будем, однако, забывать, что п. «в» ст. 71 Конституции РФ относит к исключительной компетенции РФ «регулирование и защиту прав и свобод человека и гражданина», а следовательно, в том числе регулирование и защиту свободы массовой информации, закрепленной в ст. 29 как одно из конституционных прав и свобод человека и гражданина. В то же время п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ относит «защиту прав и свобод человека и гражданина» к совместной компетенции. Следовательно, субъект Федерации вправе регулировать отношения в сфере массовых коммуникаций, во-первых, только в форме закона и, во-вторых, только в части защиты свободы массовой информации и связанных с ней прав и свобод человека и гражданина. Наконец, в-третьих, субъект Федерации вправе издавать в сфере массовых коммуникаций только такие нормативные правовые акты, которые соответствуют федеральному Закону о СМИ.



