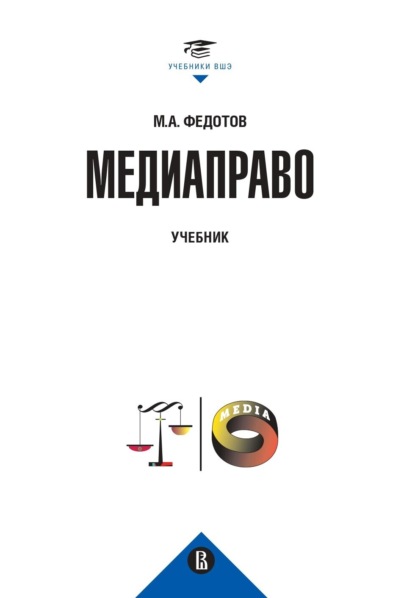
Полная версия:
Медиаправо: доктрина, законодательство, правоприменение
Роль программного обеспечения в регулировании массовых коммуникаций. Поскольку в связи с развитием ИКТ сфера медиа неуклонно расширяется за счет сетевых изданий, других интернет-СМИ, блогосферы и т. п., в сфере массовых коммуникаций возрастает влияние такого принципиально нового социального регулятора, как программный код[29]. Тот самый код, который, по мнению Л. Лессига, стал одним из главных законов интернета: именно он регулирует функционирование связанных между собой в киберпространстве компьютеров с помощью логических алгоритмов, фильтров, протоколов и т. п.
Значение программного кода как механизма социального регулирования проявляется в том, что он позволяет лицам, не являющимся субъектами публичной власти (например, владельцам социальных сетей, мессенджеров, цифровых платформ и т. д.), устанавливать правила, влияющие не только на выбор информационных услуг, но и на поведение человека в киберпространстве в целом.
Примеров регулирования поведения людей в киберпространстве с помощью программных кодов великое множество. Речь может идти, в частности, о требовании пароля доступа, о запрете анонимного посещения или множественности адресов электронной почты, о возможности шифрования, о допустимости фильтрования содержания, в частности, со стороны родителей и т. д. Причем глобальный характер киберпространства предопределяет масштаб, который может приобрести проблема несовершенства программного кода.
В качестве примера Л. Лессиг приводит так называемую проблему 2000 года (Y2K). Она рассматривалась специалистами как реальная угроза выхода из строя всех компьютерных систем, использующих программное обеспечение, в котором календари заканчивались 1999 годом. Как отмечает Л. Лессиг, проблема Y2K стала первым реальным кризисом, порожденным несовершенством программного кода, и первым вызовом, когда человеческой культуре в целом предстояло противостоять разрушительным последствиям близорукости программистов. «Точно так же, как мы должны беспокоиться по поводу плохого регулирования со стороны закона, – пишет Л. Лессиг, – нам следует беспокоиться по поводу плохого регулирования со стороны кодов. …Тысячи программистов делали свою работу, думая, что она – их собственность. Культура и правовая система по существу рассматривали их деятельность как разрозненные акции индивидов. И вот теперь, спустя годы после появления первого плохо скомпилированного кода, мы оказались лицом к лицу со своего рода экологическим бедствием: мы окружены кодами, которые могут в критических и непредсказуемых направлениях давать осечки, угрожающие как минимум миллионами долларов экономического ущерба, а то и гораздо худшими последствиями в духе сценариев Судного дня»[30].
Проблема программного кода как социального регулятора массовых коммуникаций и в целом как средства регулирования деятельности в киберпространстве весьма сложна ввиду его принципиальной новизны и неясности его соотношения с другими регуляторами. Подчеркнем, что этот социальный регулятор не имеет в своем генезисе ни государственную власть, ни гражданское общество, но способен серьезно влиять на деятельность индивидуальных и коллективных акторов в пространстве массовых коммуникаций.
Может ли законодатель устанавливать какие-то нормы, которые должны будут соблюдать создатели кодов и их заказчики – владельцы социальных сетей, цифровых платформ и т. п.? Видимо, может и должен. Однако для этого ему следует корректно включить киберпространство в сферу текущего правового регулирования, не противопоставляя реальный и виртуальный миры, а, напротив, понимая, что эти миры существуют совместно и то, что происходит в одном, может иметь серьезные последствия в другом. Наглядные примеры тому – международные скандалы, связанные с сайтом WikiLeaks, с секретными файлами Эдварда Сноудена, с блокировкой аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях и т. п.
ЗаконодательствоСистема медиаправа. Источники медиаправа. Место медиаправа в системе российского права и законодательства.
Система медиаправа. Медиаправо, будучи комплексной отраслью права и одновременно подотраслью информационного права, может быть смоделировано в виде системы концентрических окружностей.
Центральное место в этой модели занимают нормы Закона о СМИ, базирующиеся на соответствующих положениях Конституции РФ, и связанные с ними нормы Закона об информации, затрагивающие функционирование массовых коммуникаций. Вокруг них группируются другие нормы, касающиеся функционирования массовых коммуникаций и не принадлежащие однозначно к тем или иным отраслям права. Периферическая окружность объемлет нормы других отраслей права, непосредственно связанные с регулированием сферы массовых коммуникаций.
В рамках этой системы могут складываться цепочки норм, отражающие движение процесса реализации правовых установлений от общих конституционно-правовых принципов к конкретным отраслевым (в том числе и конституционно-правовым) отношениям. Эти цепочки могут быть прямыми и ветвящимися. Пример прямой цепочки – иерархическая взаимосвязанность следующих норм:
право каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ) → свобода массовой информации (ч. 5 ст. 29 Конституции РФ) → право журналиста искать, запрашивать, получать и распространять информацию (ст. 47 Закона о СМИ) → обязанность соответствующих государственных органов и должностных лиц предоставлять экологическую информацию (ст. 4.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») → уголовная ответственность за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ).
В этой прямой цепочке заложены основы и для «ветвления»: так, в третьем звене речь может идти не об экологической информации, а, например, о сведениях, составляющих государственную тайну. Соответствующим образом изменятся тогда и все последующие звенья цепочки.
Обратим внимание на то, что в данной цепочке реализуются конституционно-правовые (первое и второе звенья) отношения, массово-коммуникационные правоотношения (третье звено), административно-правовые (четвертое звено) и уголовно-правовые (пятое звено) отношения. В массово-коммуникационных правоотношениях – в отличие от всех иных – массовая информация предстает их самостоятельным объектом, а значит, нуждается в специальном механизме правового регулирования. Массово-коммуникационные правоотношения могут считаться разновидностью информационных правоотношений в той же степени, в какой медиаправо – подотраслью информационного права.
Для системы медиаправа непринципиально, из какой отрасли права почерпнуты те или иные входящие в нее нормы. Важно, чтобы они могли непротиворечиво объединяться в институты, логическая взаимосвязь которых и предопределяет эту систему. Следуя логике права, система медиаправа включает такие институты, как институт учреждения СМИ, институт регистрации СМИ, институт лицензирования вещания, институт профессиональной самостоятельности редакции СМИ, институт сетевого издания и т. д. В свою очередь, институты объединяются в более крупные совокупности – субинституты, каждому из которых посвящается отдельный раздел в данной книге.
Источники медиаправа. Под источниками медиаправа понимаются формы выражения содержания действующего, позитивного права массовых коммуникаций. Иными словами, речь идет прежде всего о нормативных правовых актах, содержащих нормы медиаправа. Сюда же относятся решения (постановления и определения) Конституционного Суда РФ; хотя они и не содержат правовых норм, но заключенные в них правовые позиции относительно конституционности тех или иных норм законодательства являются обязательными для правоприменителя. Иными словами, КС РФ может своим решением признать ту или иную норму неконституционной и тем самым заблокировать ее применение либо дать ей такое толкование, которое станет обязательным для судов и других государственных органов[31].
Иерархически выстроенная система источников медиаправа выглядит следующим образом:
Конституция РФ (в частности, вопросам массовых коммуникаций посвящены положения ст. 24, 29, 42, подп. «е», «и», «м» ст. 71 Основного Закона);
решения Конституционного Суда РФ (например, Суд обращался к рассмотрению вопросов медиаправа, проверяя конституционность постановления Верховного Совета РФ от 17.07.1992 «О газете «Известия»[32] и многих других);
многосторонние и двусторонние международные договоры РФ в медийной сфере (например, ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. и ст. 11 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека закрепляют право на информацию и свободу выражения мнений; другой пример – Соглашение о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого осуществления деятельности Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» от 24.12.1993);
федеральные конституционные законы, затрагивающие вопросы медиаправа (см., например, положения п. «б» ст. 12 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», которые предусматривают возможность ограничения свободы массовой информации путем введения предварительной цензуры, установления особого порядка аккредитации журналистов и т. д.);
федеральные законы (см., например: Закон о СМИ, Закон об информации);
указы Президента РФ (см., например, Указ Президента РФ от 20.03.1993 № 376 «О защите свободы массовой информации», в котором глава государства предупредил «должностных лиц государственных органов и организаций, общественных объединений о строгой ответственности за вмешательство в деятельность и нарушение профессиональной самостоятельности редакций, принуждение журналистов к распространению или отказу от распространения информации, а равно за совершенное в иных формах ущемление свободы массовой информации»);
постановления Правительства РФ (см., например, постановление Правительства РФ от 06.07.1994 № 810 «О ликвидации Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой информации при бывшем Министерстве печати и информации Российской Федерации»);
ведомственные акты профильных и иных федеральных органов исполнительной власти (см., например: приказ Роскомнадзора от 11.03.2021 № 23 «Об утверждении порядка ведения перечня владельцев ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, внесения в него и исключения из него информации о владельцах ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, состава содержащейся в перечне информации о них»);
ведомственные акты Генеральной прокуратуры РФ (см., например: приказ Генпрокуратуры России от 24.09.2021 № 557 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и принятия решения о признании владельца информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации»);
ведомственные акты Центральной избирательной комиссии РФ (см., например: постановление ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743–8 (ред. от 17.07.2023) «О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования»);
акты органов государственной власти субъектов РФ (см., например: постановление Правительства Москвы от 19.01.2012 № 11-ПП (ред. от 28.02.2023) «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере средств массовой информации, медиапроизводства, печати, книгоиздания и рекламы»);
акты органов местного самоуправления (см., например: решение Совета депутатов поселения Сосенское в г. Москве от 25.04.2013 № 424/56 «Об утверждении Положения об официальном печатном средстве массовой информации поселения Сосенское – газете “Сосенские вести”»);
внутренние акты организаций, осуществляющих производство и выпуск СМИ (например, уставы редакций, правила профессионального поведения сотрудников информационного агентства и т. д.);
внутренние акты организаций, администрирующих социальные сети, мессенджеры, метавселенные (в качестве примера можно назвать Правила пользования социальной сетью «ВКонтакте» и т. п.).
внутренние акты иных субъектов массово-коммуникационных правоотношений (например, правила аккредитации журналистов на каком-либо спортивном мероприятии, утвержденные его организатором).
Разумеется, этим перечнем не исчерпывается все многообразие источников медиаправа, поскольку по ходу исторического развития в сфере массовых коммуникаций появляются все новые и новые акторы, в том числе привносящие новые правила и установления.
Место медиаправа в системе российского права и законодательства. С учетом сказанного выше о предмете медиаправа и его системе легко понять, что оно, как и другие отрасли права – профилирующие, специальные и комплексные, – базируется на конституционном праве. Именно в конституционном праве сформированы институты свободы мысли и слова, свободы выражения мнений, свободы массовой информации, свободы творчества, составляющие концептуально-нормативные основы медиаправа в демократическом правовом государстве.
Теснейшим образом медиаправо связано с информационным правом, одним из подотраслей которого оно является. Данная взаимосвязь проявляется прежде всего через взаимную корреляцию норм Закона об информации и Закона о СМИ, которая, правда, местами оказывается весьма проблематичной. Так, содержащиеся в законах определения понятий «информация» и «массовая информация» – основополагающие для соответствующих отраслей права – сопрягаются не непосредственно, а только путем ряда логических операций. Большие сложности вызывает также несопоставимость понятий «информационный ресурс» и «средство массовой информации», хотя нередко оба понятия относятся к одному и тому же объекту правоотношений, например к сетевому изданию как интернет-СМИ.
В рамках информационного права медиаправо взаимодействует с другими подотраслями, субинститутами и институтами, регулирующими общественные отношения, которые возникают в информационной сфере в процессе оборота информации и применения информационных технологий (при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации), а также при обеспечении защиты информации (в процессе правового обеспечения информационной безопасности и правовой охраны информационной дисциплины)[33].
Так, в вопросе о возможности использования в массовых коммуникациях сведений, составляющих охраняемую законом тайну, медиаправо соприкасается с институтом доступа к информации, в вопросе о возможности использования персональных данных – с институтом персональных данных, о возможности использования архивных материалов – с подотраслью, именуемой архивным правом, и т. д.
За пределами информационного права медиаправо, как было показано выше, координирует свое регулирующее воздействие как с профилирующими отраслями права – административным (например, административная ответственность за злоупотребление свободой массовой информации), уголовным (например, уголовная ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста), гражданским (например, право на опровержение и на ответ как средство защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина, а также деловой репутации юридического лица), так и со специальными, например с трудовым правом, а также с комплексными отраслями, например с коммуникационным правом, опирающимся на законодательство о связи и включающим, в частности, вопросы лицензирования использования радиочастот для целей телерадиовещания.
ПравоприменениеВ отечественной юридической науке правоприменение традиционно понимается как соблюдение, использование и применение правовой нормы как завершающая стадия правового регулирования, как процесс претворения в жизнь правовых предписаний путем осуществления субъективных прав и обязанностей. По образному выражению Ю. А. Тихомирова, «кругооборот права в обществе» включает в себя последовательное прохождение таких стадий, как «осознание правовой потребности, формирование правовой идеи, концепции, определение предмета правового регулирования, разработка и принятие закона и иного правового акта как нормативно-концентрированного выражения правообразующей идеи и воли, реализация права, контроль, анализ и оценка правовых результатов, корректировка действующих актов, изменение правовых взглядов, позиций и подходов, новые зако-ны»[34]. В этих циклах ученый особо выделяет цикл правоприменения как фазу обратной связи – от общества к правосознанию, благодаря которой правовые модели и созданные на их основе нормы проверяются и корректируются.
При всем многообразии режимов реализации права (соблюдение права, исполнение обязанностей, самозащита прав, обеспечение прав со стороны государства и т. д.) окончательный вид действующее право обретает, как правило, в судебном решении, вступившем в законную силу. За прошедшие три десятилетия с момента возникновения отечественного законодательства о массовых коммуникациях сложилась богатая судебная правоприменительная практика. Поскольку ст. 1 Конституции РФ провозглашает РФ правовым государством, независимость судебной власти должна быть гарантирована. Значение судебного порядка рассмотрения широкого круга дел обусловлено конституционно закрепленной независимостью судей и подчинением их только закону, публичностью и гласностью судебного процесса, его коллегиальностью, участием представителей гражданского общества, состязательностью и равенством сторон, строгой регламентацией, возможностью обжалования вынесенных решений.
Для нормального функционирования массовых коммуникаций принципиально важно, чтобы законность в этой сфере гарантировалась возможностью обращения для разрешения возникающих споров в независимый суд. Закон о СМИ был едва ли не первым нормативным актом эпохи кардинальной перестройки российской правовой системы, в котором именно суд стал конечной точкой практически всех используемых здесь юридических алгоритмов. Так, согласно ч. 1 ст. 61 этого закона, в суд могут быть обжалованы: любые неправомерные действия органа, регистрирующего СМИ; решение об аннулировании лицензии на вещание; отказ и отсрочка в предоставлении запрашиваемой редакцией СМИ информации либо нарушение порядка ее предоставления; отказ в аккредитации, лишение аккредитации, нарушение прав аккредитованного журналиста. Часть 3 ст. 45 Закона о СМИ дополнительно включает в этот перечень случаи отказа в опровержении или ответе либо нарушение порядка их распространения.
Кроме того, суд полномочен решать вопросы о признании регистрации СМИ недействительной (ч. 1 ст. 15), о прекращении и приостановлении деятельности СМИ (ст. 16), о прекращении распространения продукции СМИ (ч. 5 ст. 25), о возложении ответственности за нарушения законодательства о СМИ (ст. 58–60), о возмещении (компенсации) морального вреда (ст. 62).
Дела, связанные с функционированием массовых коммуникаций, помимо судов общей юрисдикции и арбитражных судов рассматривает также КС РФ, если, разумеется, спор относится к его ве́дению. Именно КС РФ, призванный разрешать дела о конституционности законов и иных нормативных актов, может до некоторой степени смягчить разрушительное действие юридического хаоса и «законодательного импрессионизма», когда правовая норма подменяется бланкетным декларированием ее существования, ибо он, решая конкретные дела, должен искать логическое единство текущего законодательства и действующей Конституции. Так, 19.05.1993 КС РФ вынес постановление по индивидуальной жалобе членов журналистского коллектива редакции газеты «Известия» в связи с постановлением Верховного Совета РФ от 17.07.1992 «О газете «Известия».
Вне зависимости от дальнейшей судьбы этой газеты следует оценить упомянутое решение КС РФ как судьбоносное для защиты свободы массовой информации. «Только 19 мая все мы наконец-то смогли вздохнуть с полным облегчением, – вспоминает один из руководителей тогдашних «Известий» В. Т. Захарько. – Как написал в своем комментарии на первой полосе Юрий Феофанов, решение суда «ничего, кроме чувства глубокого удовлетворения, вызвать не может. Было отмечено чрезвычайно важное, касающееся всей прессы и общества в целом, значение того, что КС своим решением по одной газете подтвердил конституционную норму о свободе слова и печати во всей стране. Подтвердил естественное и незыблемое право демократического общества на независимость мыслей, суждений и мнений, разумеется, в рамках закона. Именно это право пытался нарушить Верховный Совет РФ, принимая постановление по “Известиям”»[35].
Предметом рассмотрения в КС РФ было также постановление IX Съезда народных депутатов «О мерах по обеспечению свободы слова на государственном телерадиовещании и в службах информации». Среди актов КС РФ, имеющих отношение к функционированию массовых коммуникаций, отметим также решение о привлечении главного редактора «Российской газеты» к ответственности за неуважение к суду, о толковании понятия «предвыборная агитация» и многие другие, детальный разбор которых читатель найдет на страницах этой книги.
§ 1.2. Становление российского законодательства о массовых коммуникациях
ДоктринаЗарождение массовых коммуникаций и их регулирования. Циклический характер развития законодательства о повременной печати и о цензуре в Российской империи. Первый демократический проект закона о печати (1906 г.). Декрет СНК о печати (1917 г.). Партийное руководство как замена правового регулирования. Попытки создания закона о печати в СССР. Закон СССР от 12.06.1990 «О печати и других средствах массовой информации»: история его создания, структура, основные положения, правоприменительная практика.
Зарождение массовых коммуникаций и их регулирования. Как известно, «в начале было Слово». С появления Слова как средства общения между людьми зародилась вселенная медиа, и дальше она только расширялась, порождая все новые и новые массовые коммуникации.
Исторически первым средством массовой информации принято считать периодическую печать. Однако и до появления печатной прессы были своего рода массовые коммуникации: во-первых, письменные (рукописи, исполненные на папирусе или бересте, на глиняных, медных или деревянных табличках и т. д.), а во-вторых, устные. Коринна Куле пишет, что в Древней Греции граждане, а иногда и другие проживающие в государстве-полисе группы посещали некоторое количество пространств массовой коммуникации: «В их число входят агора, или общественная площадь, святилища, театр, гимнасий. Есть в полисах и места политической коммуникации: собрания, советы, суды, органы, носящие иногда разные названия в зависимости от государства»[36]. Конечно, по своим масштабам эти виды коммуникации можно считать массовыми только в соотношении с масштабами самих древнегреческих городов-полисов.
В Древнем Риме также существовали средства массовой коммуникации. Как отмечает Л. В. Лыткина, «в период консульства Юлия Цезаря (100–44 гг. до н. э.) появились первые рукописные газеты. Их предшественницами были так называемые афиши, или надписи. …Афиши не исчезли до конца империи и служили орудием гласности»[37].
С именем Юлия Цезаря связано появление двух рукописных газет: ежедневной «Дела Сената» (Acta Senatus), где публиковались сообщения об основных политических событиях, государственных церемониях, сенатских совещаниях, и еженедельной «Заметки о новых событиях», суммарный тираж которой мог доходить до 10,5 тыс. экземпляров (в Риме было много недорогих переписчиков, грамотных рабов). В свою очередь, сборщики новостей, именуемые диурнариями (от diurna — ежедневный), составляли сводки сообщений, компиляции (compilatio — собрание документов), где важная информация могла соседствовать с повседневной. Так постепенно формировалась практика официальной газеты Древнего Рима «Дела общественные» (Acta publica), позднее переименованной в «Ежедневные дела римского народа» (Acta diurna populi romani), просуществовавшей до V века[38].
В Древнем Китае также существовали массовые коммуникации. В эпоху династии Хань (206 до н. э. – 220 н. э.) здесь издавались первые газеты в виде листков новостей («дзыбао»), которые выпускались властями и распространялись среди государственных чиновников. Первая печатная газета «Столичный вестник» начала выходить в Китае в VIII в.; она содержала указы императора и сообщения о важнейших событиях[39].



