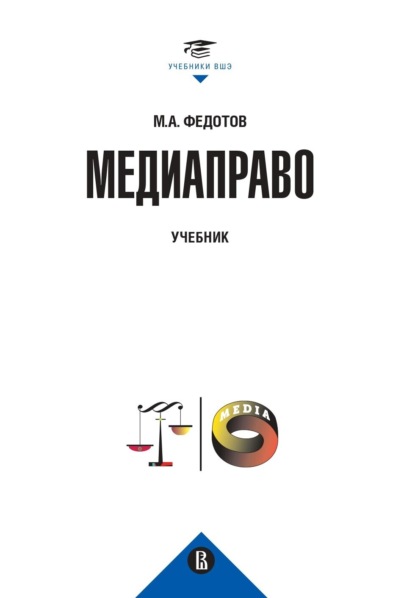
Полная версия:
Медиаправо: доктрина, законодательство, правоприменение
Естественно, по мере возникновения массовых коммуникаций постепенно формировались и социальные регуляторы, призванные прежде всего оградить общественные интересы, как бы по-разному они ни определялись, от посягательств со стороны нарождающихся массовых коммуникаций. Одним из этих регуляторов стал закон, другим – этика, или, точнее, доминирующие в общественном сознании представления о добре и зле, грехе и добродетели.
Поистине массовый характер коммуникации смогли приобрести благодаря изобретенному Иоганном Гутенбергом в 1450-х годах печатному прессу. Но периодическая печать возникла лишь спустя почти два столетия: 30 мая 1631 г. во Франции начала издаваться La Gazette. И по мере того как появлялись возможности изготавливать на бумаге тексты и изображения все чаще и во все большем количестве копий, периодическая печать как средство массовой коммуникации постепенно, от века к веку, приобретала все более массовый характер.
Естественно, чем более авторитетными и влиятельными становились массовые коммуникации, тем выше оказывалась потребность в социальных регуляторах их функционирования. Едва ли не первым это понял император Тиберий (42 г. до н. э. – 37 г. н. э.), посчитавший, что Acta Senatus подрывают его политический имидж, и потому повелевший закрыть издание. Разумеется, такой во всех смыслах ненормативный акт трудно признать социальным регулятором в современном понимании этого явления, однако не будем забывать, что каждая эпоха и каждый народ устанавливают собственные стандарты свободы, гуманизма, справедливости и медиаэтики. В связи с этим сошлемся на горькое признание постановления ЕСПЧ в том, что «мнения относительно требований морали изменяются во времени и в пространстве, особенно в нашу эпоху, которую характеризует масштабная эволюция взглядов по данному вопросу. Вследствие прямого и непрерывного контакта с жизнеутверждающими силами своих государств внутригосударственные органы находятся в принципиально лучшем по сравнению с судьей международного органа положении, позволяющем выражать мнение о точном содержании данных требований, а также о “необходимости” “ограничения” или “наказания”, которые должны отвечать этим требованиям»[40].
Разумеется, правовое регулирование в сфере печати изначально развивалось в логике запретов, лицензий и цензуры, что вполне соответствовало мрачному духу Средневековья. Но постепенно дух Возрождения и Просвещения проник и в сферу массовых коммуникаций. Проник, как с тех пор и повелось, с неимоверным трудом, поскольку, чтобы убедить общество и государство в целебных свойствах свободы печати, нужно сначала усыпить бдительность цензуры.
Этот прием вполне удался шведскому публицисту и философу Петеру Форссколю (Peter Forsskål), опубликовавшему в 1759 г. под контролем государственного цензора-либрорума[41] Нильса Эльрейха трактат «Мысли о гражданской свободе». Рассуждая в духе современной ему теории естественного права, Форссколь обосновывал целебность неограниченной свободы слова как для общества, так и для властей[42].
Естественно, когда брошюра с трактатом разошлась в читающем обществе, она вызвала переполох в коридорах власти. В результате цензора отстранили от работы, книгу же, правда только через год, запретили, а найденные при обыске 79 экземпляров (из тиража 500 экз.) уничтожили.
Но на этом злоключения шведской цензуры не закончились. Благодаря конкуренции между ветвями власти уволенный Эльрейх вскоре вернулся в кресло цензора и еще какое-то время продолжал цензурировать рукописи параллельно со своим бывшим ассистентом. А тем временем был назначен новый цензор, который, однако, так и не смог приступить к исполнению своих обязанностей. В итоге шведскому парламенту – Риксдагу – надоела эта неразбериха и он принял единственно правильное решение: отменил цензуру и издал Акт о свободе печати.
Как отмечает Томас фон Вегесак, «уникальность закона 1766 года о свободе печати заключалась, в первую очередь, не в упразднении должности цензора. Такая же история уже случилась в Англии в 1695 году. В отличие от всех прежних законов, этот представлял собой не подсчет препятствий, которые писатель должен был принимать во внимание на пути к публикации своей рукописи, нет, он возводил защитную стену, ограждавшую его от удовольствия властей возводить на его пути все новые преграды и препятствия»[43].
Шведский Закон о свободе печати от 2 декабря 1766 г. именовался «Его Королевского Величества Милостивый Указ Относительно Свободы Писательства и Свободы Слова». Он отменял предварительную цензуру[44] в отношении всей печатной продукции, кроме академических и теологических трудов, а также запрещал – под страхом крупных штрафов – богохульство, клевету и выражение сомнений в законности властей, наконец, что было принципиально новым, гарантировал доступ к официальным государственным документам.
Дальнейшая судьба шведского закона о свободе печати не была безоблачной. Уже в 1767 г. в закон внесли поправку, запретившую критику парламентских дебатов, а в 1790 г. объявили незаконной публикацию в газетах любой информации о революционных событиях во Франции. Всего же к 1844 г. накопилось около двух десятков поправок, едва ли не каждая из которых сокращала пространство свободы печати. Видимо, еще в XVIII столетии в законодательство о массовых коммуникациях был занесен некий ген (или коронавирус?), сохраняющий свою устойчивость и в XXI в.: сначала, на волне демократических преобразований (в шведскую историю период между 1719 и 1772 гг. вошел под названием «эра свободы»), принимается закон о свободе массовых коммуникаций, чтобы все последующее время подвергаться последовательному и неуклонному ужесточению. С течением времени цикл повторяется.
Иными словами, динамику изменчивости законодательства о массовых коммуникациях можно уподобить осциллятору, когда за взлетом следует падение, а за падением – взлет[45].
Циклический характер развития законодательства о повременной печати и о цензуре в Российской империи. Отечественное законодательство в сфере массовых коммуникаций зародилось задолго до формирования современной медийной экосистемы и в течение нескольких веков развивалось исключительно как законодательство о повременной печати и цензуре. Наиболее адекватным обозначением для него было цензурное право. Место закона о печати занимали уставы о цензуре (1804, 1826 и 1828 гг.), Временные правила по цензуре (1862, 1865 и 1882 гг.), Временные правила о повременных изданиях (1905 г.), Временное положение о военной цензуре (1914 г.) и т. д. Причем по тому, как ужесточались или, напротив, облегчались цензурные скрепы, можно было судить об историческом движении «осциллятора гласности».
Так случилось, что предварительная цензура стала главным стражем свободного слова (так тюремщик становится главным стражем заключенных!) за 185 лет до своей отмены. Началось с того, что «известно учинилось, что в Киевской и Черниговской типографиях в печатных книгах печатают несогласно с Великороссийскими печатьми». А потому указом от 5 октября 1720 г. велено было «никаких книг, ни прежних, ни новых изданий, не объявя об оных в Духовной коллегии и не взяв от оной позволения, в тех монастырях не печатать». Естественно, данное правило быстро распространилось на все типографии, поскольку Духовной коллегии, как и всякому нормальному бюрократическому учреждению, присуще было стремление к экстенсивному развитию. Поэтому в ее регламенте было установлено: «Аще кто о чем богословское письмо сочинит, и тое б не печатать, но первее презентовать в Коллегиум. А Коллегиум рассмотреть должно, нет ли каковаго в письме оном погрешения, учению православному противнаго».
Впоследствии цензура, как переходящее красное знамя, неоднократно меняла свое пребывание, концентрируясь то в Академии наук, то в полицейских управах благочиния, то в министерстве народного просвещения, то опять в министерстве полиции. Был даже период, когда цензура выделилась в самостоятельное ведомство, возглавляемое Верховным цензурным комитетом в составе трех министров: народного просвещения, внутренних и иностранных дел. На смену Верховному пришел Особый негласный комитет, потом – Главное управление цензуры и т. д. Был даже Особый комитет по «цензурной ревизии», своего рода цензура над цензурой.
За всеми этими перемещениями стояла главная цель – обеспечить максимальную свободу рук бюрократии, что, естественно, предполагало тотальный контроль над распространяемой в обществе информацией. Вот почему цензурные правила запрещали делать любые «предположения о преобразовании каких-либо частей государственного управления или изменения прав и преимуществ» и устанавливали, что «статьи, касающиеся до государственного управления, не могут быть напечатаны без согласия того министерства, о предметах коего в них рассуждается». От цензоров требовалось, чтобы «не было допускаемо в печати никаких, хотя бы и косвенных, порицаний действий или распоряжений правительства и установленных властей, к какой бы степени сии последние ни принадлежали». Запрещалось «пропускать к напечатанию места… имеющие двоякий смысл, ежели один из них противен цензурным правилам». Запрещено было ставить точки вместо пропущенных цензурой мест, в результате чего однажды цензор запретил книгу по арифметике. «При этом цензорам строжайшим образом вменили в обязанность “не пропускать в печать выражений, заключающих намеки на строгость цензуры”»[46].
В присутствии цензуры и в отсутствие гласности бесконтрольность бюрократии была абсолютной. Причем если в XVIII в., как отмечал Д. И. Иловайский около ста лет назад, «главным пороком в этом полуобразованном обществе была привычка обогащаться за счет казны, брать взятки и, смотря по личным расчетам, скрывать правду от царя», то и век спустя главным злом был «недостаток добросовестности, или, другими словами, малое развитие чувства законности – наследие старых времен, поддерживаемое поверхностным просвещением и другими историческими обстоятельствами (например, издавна развившимся обычаем “канцелярской тайны”). Это зло проникло всюду: в торговлю, промыслы, суды, школы и в самую литературу. Могущественное средство против подобного зла – печатная гласность – допущено в позднейшее время; она должна способствовать более правильному развитию общественного мнения»[47].
Первый демократический проект закона о печати (1906 г.). Действительно, печатная гласность была допущена только осенью 1905 г. в общем контексте вынужденных конституционных реформ, проведенных императором Николаем II под давлением социалистов на улице и либералов в правительстве. К тому моменту издатели фактически уже перестали обращаться к цензуре за разрешениями. Власть понимала, что восстановить действие прежней цензуры невозможно, а после Манифеста 17 октября 1905 г., даровавшего подданным свободу слова и печати, еще и, мягко говоря, нелогично и нелегитимно. Вот почему на свет появился… Нет, не закон о свободе печати, и даже не закон о печати, а на скорую руку сколоченный документ – Временные правила о повременных изданиях от 24 ноября 1905 г., которые отменяли предварительную цензуру. Впрочем, система административных взысканий продолжала действовать за счет других законов, позволив властям с 1906 по 1912 г. 973 раза штрафовать газеты[48].
Проект закона о печати был внесен в I Государственную думу фракцией кадетов 4 июля 1906 г. В сопровождавшей проект Объяснительной записке говорилось: «Мы просим Государственную думу признать необходимым издание закона о печати, действительно обеспечивающего свободу печатного слова, без которой невозможны ни гражданская свобода, ни развитие материальных и духовных интересов народа. …Исходя из убеждения, что только полная свобода печати соответствует потребностям и достоинству свободной страны, что только при полной свободе слова печать может исполнять свое высокое культурное назначение, настоящий законопроект не допускает иных ограничений свободного слова, кроме таких, которые диктуются безусловными требованиями общей свободы и гражданского быта. Никакие другие ограничения, кроме установленных этим законом, не должны существовать для печати. В тех немногих ограничительных случаях, которые нынешним законом предусмотрены, речь идет преимущественно о защите интимной, личной жизни граждан, вторжение в которую представляло бы собой грубое злоупотребление свободой не в общественных интересах, а по низменным мотивам. За исключением этих случаев и редкого случая, вызываемого исключительно международными условиями (ст. 8 проекта), для печати ничего не запрещено, не указано ничего такого, чего печать не могла бы касаться»[49].
Законопроект открывался общей декларацией: «Печать свободна. Цензура отменяется безусловно и навсегда. Свобода печати подлежит только тем ограничениям, которые установлены настоящим законом» (ст. 1). Что касается упомянутой в Объяснительной записке ст. 8, то она предусматривала право председателя правительства «ввиду угрожающей или уже наступившей войны… воспрещать обнародование сведений, касающихся передвижения войск и средств обороны».
Хотя законопроект не предусматривал ни разрешительного, ни регистрационного порядка легализации газет и журналов, он обязывал тем не менее на каждом экземпляре периодического печатного издания указывать издателя, ответственного редактора, типографию, адрес редакции. Примечательной особенностью проекта была обязательность безотлагательной публикации опровержений и исправлений, поступивших от заинтересованных правительственных учреждений или частных лиц. За неисполнение этой обязанности редактор наказывался денежной пеней в размере от 25 до 100 рублей за каждый номер, в котором опровержение могло быть, но не было напечатано.
Принципиальное значение имело положение законопроекта о том, что «нарушения правил о печати подлежат ве́дению суда присяжных». По этому поводу в Объяснительной записке отмечалось: «Печальный опыт нынешней судебной практики показывает, что коронный суд не остается свободным от административного воздействия, когда ему приходится решать дела о закононарушениях, связанных с политическими и социальными идеями, с борьбой партий и классов. Страна должна иметь уверенность, что закон о печати будет применяться согласно требованиям народной совести, а не тех лиц и партий, в руках которых будет находиться политическая власть. …Возможность административного произвола и судебного пристрастия более опасны, чем те последствия, которые могут произойти от распространения печатного произведения, хотя бы и заключающего в себе преступное содержание».
Что касается преступлений, совершаемых посредством печати, то законопроект предусматривал новую редакцию двух статей Уголовного уложения: о дерзостном неуважении «верховной власти произнесением или чтением публично речи или сочинения, или распространением, или публичным выставлением сочинения или изображения» и публичных призывах «к учинению убийства, разбоя, поджога… если сие учинено с целью побудить к совершению одного из сих преступлений».
Внесенный кадетами проект закона о печати так и не был принят, поскольку уже через пять дней, 9 июля 1906 г., император Николай II подписал высочайший манифест о роспуске I Государственной думы. Несмотря на столь печальную судьбу законопроекта, предварительной цензуры в тот период не существовало вплоть до середины 1914 г., когда появилось Временное положение о военной цензуре, ставшее, в свою очередь, одной из первых жертв Февральской революции 1917 г. Временное правительство, естественно, провозгласило свободу печати как один из основополагающих принципов новой жизни. Так цензуру отменили во второй раз, однако, как вскоре выяснилось, ненадолго.
Декрет СНК о печати (1917 г.). Большевистский переворот, или, по другой версии, Великая Октябрьская социалистическая революция, сразу отменил свободу печати как нечто чуждое диктатуре пролетариата. За начальную точку следует принять ленинский Декрет о печати от 27 октября 1917 г. Отвечая на вопросы делегации профсоюза печатников, Петроградский ревком так разъяснил смысл этого акта: «Цензура не вводилась», а Я. М. Свердлов добавил: «Когда период восстания окончится, революционный строй укрепится, вопрос будет стоять в другой плоскости». Это обещание перекликается с текстом преамбулы Декрета о печати: «Как только новый порядок упрочится, всякие административные воздействия на печать будут прекращены; для нее будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону». Обещанного пришлось ждать, как мы теперь знаем, 73 года.
Декрет хотя и не вводил цензуру, но предусматривал закрытие (временное или постоянное) органов печати, призывающих: а) к открытому сопротивлению и неповиновению правительству, б) сеющих смуту путем явного клеветнического извращения фактов, в) призывающих к деяниям уголовно наказуемого характера. Позднее перечень возможных санкций расширился за счет штрафа, общественного порицания, публикации опровержения, конфискации типографии, лишения свободы, лишения всех или некоторых политических прав и т. д. Практика применения Декрета в первые месяцы советской власти была такова: до конца 1917 г. были закрыты 92 газеты, за январь – апрель 1918 г. – еще 111 газет. Потом, конечно, число закрываемых газет пошло на убыль, поскольку независимых изданий с каждым разом становилось все меньше и меньше.
На местах, однако, идея предварительной цензуры как наиболее простого, хотя и грубого, прямолинейного способа контроля над прессой медленно, но верно торила себе дорогу. Так, 3 мая 1919 г. отдел печати Московского совета постановил: «Никакое издательство не вправе сдавать в набор книги без разрешения Отдела печати», даже если заказчиками выступают отделы наркоматов, правительственные и советские учреждения. Естественно, это постановление, подрывавшее всевластие вышестоящих структур, не просуществовало и недели: Совнарком отменил его.
И все же учреждение цензуры как государственной институции состоялось. Сказались исторические традиции бюрократизации, которая автоматически стремится к большей таинственности, меньшей гласности, а отсюда уже рукой подать до цензуры. Кстати, традиции сказались и на ведомственной подчиненности органов цензуры. Как и в царской России, эти органы относились то к системе народного образования, то к министерству внутренних дел, то учреждались как самостоятельная ветвь исполнительной власти. Хотя исторически первым общегосударственным цензурным ведомством в советской России был Госиздат, который имел право утверждать планы каждого, в том числе и частного, издательства, требовать представления рукописей для просмотра, однако именно сменивший его на этом поприще в июне 1922 г. Главлит на семь десятилетий стал постоянным логовом цензуры.
Партийное руководство как замена правового регулирования. Главной особенностью нормативного регулирования массовых коммуникаций в советское время было даже не существование институциональной цензуры, а практически полный отказ в этой сфере от правовых установлений в пользу партийных директив. Конечно, различные правовые акты (конституции СССР и РСФСР, УК РСФСР, ГК РСФСР, законы о выборах и др.) содержали нормы, касающиеся отдельных вопросов функционирования периодической печати, радио и телевидения, однако никакой связи между ними не было, и в целом они не образовывали единого механизма правового регулирования.
Отсутствие правового регулирования компенсировалось партийными нормами. Как справедливо отмечает С. С. Алексеев, одна из особенностей советского правопорядка – «придание идеологии (марксизму, партийным программам) да и всем партийным решениям непосредственного юридического значения и действия»[50]. Именно нормативные документы КПСС определяли порядок создания газет и журналов, назначения главных редакторов, периодичность выпуска или размеры тиража и т. д. Даже так называемая гласность появилась вне какой-либо связи с правом, а исключительно по воле тогдашних руководителей партии-государства[51] была дарована обществу подобно октроированной конституции[52].
Более того, сама гласность, провозглашенная в середине 1980-х годов, являлась не правом, а привилегией. Причем привилегия эта была, как правило, персонифицирована: то, что позволялось опубликовать, например, «Московским новостям», было абсолютно запрещено, скажем, для «Московской правды». Привилегии носили неформальный характер и предоставлялись обычно в пределах определенного периода времени, кампании, темы или даже конкретного материала. И тот факт, что тому или иному автору было дозволено свободно изложить отклоняющуюся от партийной линии позицию в одной статье, сам по себе еще не создавал прецедента ни для данного автора, ни для других. За соблюдением такого порядка строго следил Главлит СССР, представители которого работали в каждом издательстве, телерадиокомитете, информационном агентстве, а без их разрешения никакая информация не могла увидеть свет.
Для трансформации гласности как привилегии в свободу массовой информации как юридически гарантированное право требовалось по меньшей мере перейти в этой сфере от политического декларирования к правовому регулированию. Однако такой переход был возможен лишь в условиях критического ослабления тоталитарного режима и таил опасность (полностью оправдавшуюся на практике) его полного краха. Вот почему в течение многих десятилетий советское руководство решительно отвергало идею законодательного регулирования организации и деятельности средств массовой информации, ясно понимая органическую несовместимость своего режима с любой формой политической свободы.
Попытки создания закона о печати в СССР. Первый дошедший до наших дней проект закона СССР «О печати» был подготовлен в 1968 г. Однако в ходе его обсуждения на заседании Политбюро ЦК КПСС решающей стала позиция главного партийного идеолога М. А. Суслова, который «бросил этот закон на стол и сказал: “От отмены цензуры в Чехословакии до момента ввода наших танков в Прагу прошел ровно год. Чьи танки и когда мы будем вводить в Москву?”»[53].
В 1976 г. в ЦК КПСС был подготовлен новый проект закона «О печати», не в последнюю очередь вызванный к жизни фактом вступления в силу 23 марта 1976 г. на территории СССР Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. В свою очередь, Пакт юридически гарантировал каждому человеку «свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения или иными способами по своему выбору» (ст. 19). Однако и этот проект был отвергнут руководством ЦК КПСС.
Закон СССР от 12.06.1990 «О печати и других средствах массовой информации»: история его создания, структура, основные положения, правоприменительная практика. В годы горбачевской перестройки закон «О печати и других средствах массовой информации» попал в план законопроектных работ на XII пятилетку. Не в последнюю очередь это было связано с теми обязательствами, которые принял на себя СССР, подписав Итоговый документ венской встречи государств – участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (ныне – ОБСЕ): «разрешать отдельным лицам, учреждениям и организациям при уважении прав на интеллектуальную собственность, включая авторское право, получать, обладать, воспроизводить и распространять информационные материалы всякого рода».
Первоначальная версия будущего закона сформировалась на рубеже 1986–1987 гг. в недрах аппарата ЦК КПСС и оказалась на две трети копией проекта 1976 г. Тоталитарная сущность концепции законопроекта наиболее ярко проявилась в обширной преамбуле:
«Советская печать под руководством Коммунистической партии Советского Союза активно участвует в решении важных проблем жизни народа, преобразовании социалистических общественных отношений в коммунистические, в воспитании нового человека.
Верность коммунистическим идеалам, партийность, боевой революционный дух, массовость и правдивость, тесная связь с миллионами трудящихся – отличительные черты советской печати, проявление ее подлинного демократизма.
Высок международный авторитет советской печати. Она несет миллионам людей Земли идеи марксизма-ленинизма, правду о социалистическом образе жизни, о ленинской миролюбивой внешней политике Коммунистической партии и Советского государства, отвечающей жизненным интересам всего прогрессивного человечества»[54].
В середине 1988 г. альтернативу официальному проекту составил инициативный авторский проект, разработанный тремя правоведами: Ю. М. Батуриным, М. А. Федотовым и В. Л. Энтиным. Концептуальная основа этого проекта была принципиально иной: безусловное запрещение цензуры, признание за гражданами права учреждать СМИ, обеспечение профессиональной и экономической независимости редакций, детальная регламентация прав и обязанностей журналиста, тайна источников доверительной информации и т. д.



