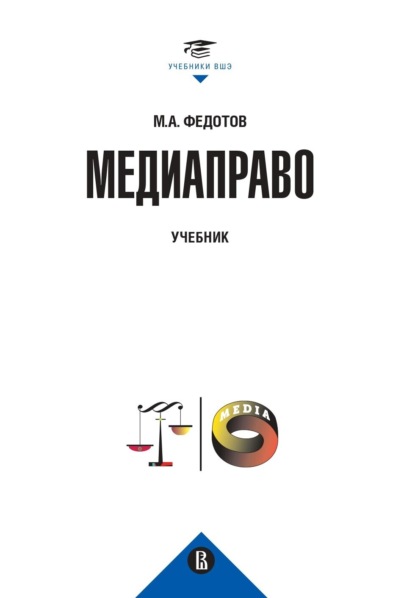
Полная версия:
Медиаправо: доктрина, законодательство, правоприменение
В законодательство РФ о массовых коммуникациях входят также принципы и нормы международного права, касающиеся свободы выражения мнений, свободы информации, свободы творчества и других вопросов организации и функционирования медиа. Такой вывод следует, во-первых, из ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, которая гласит: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». При этом, согласно правовой позиции ВС РФ, «под общепризнанными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо»[66].
Во-вторых, об этом же свидетельствует включение в ст. 5 Закона о СМИ «Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации» части второй: «Если межгосударственным договором, заключенным Российской Федерацией, предусмотрены для организации и деятельности средств массовой информации иные правила, чем установленные настоящим Законом, применяются правила межгосударственного договора».
Это позволяет присоединиться к мнению В. В. Ершова о том, что «теоретически бесперспективно, а практически нецелесообразно создавать самые разнообразные дуалистические системы права, искусственно разграничивающие “право” и “закон”, “должное” и “позитивно установленное органами государственной власти”, международное и национальное право. Думаю, что и с теоретической, и с практической точек зрения необходимо рассматривать все право в Российской Федерации в виде единой системы взаимосвязанных и взаимообусловленных форм международного и российского права»[67].
При этом следует иметь в виду внесенную в Конституцию РФ в 2020 г. поправку, согласно которой «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации» (ст. 79).
Структурообразующий характер Закона о СМИ в системе законодательства о массовых коммуникациях. Выше мы проанализировали содержание ч. 1 ст. 5 Закона о СМИ в контексте сочетания федерального и регионального законодательства. Теперь нам следует рассмотреть эту правовую норму в смысле соотношения Закона о СМИ с иными нормативными правовыми актами РФ. Буквальное толкование ее позволяет сделать вывод, что любой нормативный правовой акт в сфере законодательства о средствах массовой информации должен издаваться в соответствии с Законом о СМИ. Тем самым законодатель отводит Закону о СМИ роль структурообразующего элемента, который интегрирует различные по своему местоположению в законодательстве правовые нормы в единую систему взаимосвязанных, взаимодополняющих правил поведения, регулирующих относительно обособленную совокупность общественных отношений, возникающих в процессе организации и функционирования массовых коммуникаций.
Согласно доктрине медиаправа, воплощенной в Законе о СМИ, изложенная правовая конструкция была призвана в максимальной степени обеспечить построение стройного и непротиворечивого отраслевого законодательства в сфере массовых коммуникаций на основе структурообразующего Закона о СМИ. Правовая позиция КС РФ, в принципе, не препятствует реализации подобной конструкции.
На примере УПК РФ Конституционный Суд РФ пришел к выводу о том, что кодекс, «будучи обычным федеральным законом, не имеет преимущества перед другими федеральными законами с точки зрения определенной непосредственно Конституцией Российской Федерации иерархии нормативных актов». В то же время КС РФ подчеркнул, что «противоречащие друг другу правовые нормы порождают и противоречивую правоприменительную практику, возможность произвольного их применения, ослабляют гарантии государственной защиты конституционных прав и свобод», а значит, «структурирование системы федерального законодательства, по общему правилу, предполагает, что установление новых норм, регулирующих уголовно-процессуальные отношения, – согласно самой сути и природе уголовно-процессуального закона – должно быть согласовано с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации… Появление в регулировании уголовного судопроизводства нормативных положений, противоречащих Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, может создать неопределенность в правовом положении участников судопроизводства, привести к нарушениям прав и законных интересов граждан и в конечном счете – к дестабилизации единого правового пространства в сфере уголовного судопроизводства»[68].
Таким образом, КС РФ признал наличие особой роли, которую играет в правовой системе РФ кодифицированный нормативный правовой акт, осуществляющий комплексное нормативное регулирование тех или иных отношений, и право законодателя устанавливать приоритет такого структурообразующего элемента перед иными федеральными законами в регулировании соответствующего круга отношений.
Рассматривая Закон о СМИ под этим углом зрения, следует признать, что он и по названию, и по содержанию представляет собой именно такой систематизированный свод правовых норм, во взаимосвязи и содержательном единстве регулирующих организацию и функционирование СМИ. Имея прямое действие на всей территории РФ, Закон о СМИ призван обеспечить единообразие и согласованность нормативно-правовых установлений и складывающейся на их основе правоприменительной практики в сфере массовой информации.
Непосредственно из текста Закона о СМИ вытекает обязанность законодателя принять в соответствии с ним законодательные акты об издательском деле (ч. 1 ст. 21), о государственной, коммерческой или иной специально охраняемой законом тайне (ч. 1 ст. 40), о случаях, когда журналист не вправе производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки (п. 6 ч. 1 ст. 47), о защите чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества журналиста в связи с осуществлением им профессиональной деятельности как лица, выполняющего общественный долг (ч. 4 ст. 49). Кроме того, Закон о СМИ предполагает внесение изменений в УК РФ, УПК РФ, КоАП РФ для конкретизации мер ответственности за ущемление свободы массовой информации (ст. 58), за злоупотребление свободой массовой информации (ст. 59) и за иные нарушения законодательства о СМИ (ст. 60).
Значительная часть этих правовых норм и актов уже существует в законодательстве. Так, с начала 1990-х годов в КоАП РФ имеются статьи, предусматривающие ответственность за нарушение порядка изготовления и распространения продукции СМИ (ст. 13.21), объявления выходных данных (ст. 13.22) и представления обязательных экземпляров документов (ст. 13.23), за воспрепятствование распространению продукции СМИ (ст. 13.16). Позднее к ним прибавились такие составы административных правонарушений, как нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов и референдумов (ст. 5.5), нарушение прав представителя СМИ на выборах (ст. 5.6), распространение продукции СМИ, содержащей нецензурную брань (ст. 6.27), злоупотребление свободой массовой информации (ст. 13.15) и др.
Пробелы и избыточные нормы в законодательстве о массовых коммуникациях. Как было показано выше, собственно законодательство о массовых коммуникациях развивается посредством как изменения (далеко не всегда удачного) Закона о СМИ, так и создания иных, дополняющих его законов, обязанных в силу требований ч. 1 ст. 5 соответствовать Закону о СМИ. При этом пробелы в правовом регулировании порой сочетаются с его избыточностью, а соответствие этого регулирования основополагающим положениям Закона о СМИ оказывается сомнительным.
Говоря о пробелах в законодательстве о массовых коммуникациях, назовем прежде всего закон о телерадиовещании, длительное отсутствие которого привело к включению в Закон о СМИ в 2011 г. значительного числа норм, касающихся порядка лицензирования теле- и радиовещания (ст. 31.1–31.9). Такое дополнение было призвано восполнить пробел, вызванный отсутствием полноформатного закона о телерадиовещании, однако привело к нарушению внутренней цельности закона и гармоничности его структуры.
Трудно не обратить внимание на исключительные превратности судьбы законопроекта о телевидении и радио. Разработанный и одобренный профильным парламентским комитетом еще в 1991 г., он так и не дошел до обсуждения на сессии Верховного Совета РФ вплоть до прерывания его законодательной деятельности в сентябре 1993 г. Как отметили авторы Закона о СМИ в монографии, посвященной истории его создания, «окно возможностей» для «законов, реально гарантирующих свободу массовой информации, открытое настежь еще в ноябре 1991 года, стало закрываться к середине декабря. Лишь ценой огромных усилий удалось «протиснуть» закон [о СМИ] в самом конце месяца. А закон о теле- и радиовещании не успел. Всё. «Окно» закрылось»[69].
Вторая попытка создать закон о телевидении и радио относится к середине 1990-х годов. Принятый ГД ФС РФ 12.05.1995 и одобренный СФ ФС РФ, он был отклонен Президентом РФ. Государственная Дума сумела 20.03.1996 преодолеть президентское вето, но при голосовании в Совете Федерации 10.04.1996 закон собрал лишь 16 % голосов.
Нельзя не учитывать, что на законе о телерадиовещании скрещиваются противоположные интересы мощных групп влияния: рекламодателей, вещателей, производителей контента, операторов связи, наконец, телезрителей и радиослушателей. Минимизация правового регулирования в этой сфере создает наилучшие условия для административного усмотрения в вопросе о свободе аудиовизуальной массовой информации, для реорганизаций государственных телерадиокомпаний и эффективного воздействия на их программную политику, для достаточно произвольного распределения и перераспределения каналов наземного эфирного вещания и «кнопок» в мультиплексах.
Серьезным пробелом является отсутствие законодательных норм об особенностях экономических отношений в сфере массовых коммуникаций. Подобные нормы, существующие во многих зарубежных странах, призваны ограничивать монополизацию медиа, обеспечивать транспарентность отношений владения и контроля, гарантировать независимость редакционной политики от произвола со стороны владельцев медиаактивов.
Избыточность правового регулирования также наносит серьезный вред законодательству о массовых коммуникациях, когда появляются нормативные правовые акты, призванные регулировать те общественные отношения, которые в этом не нуждаются. В пределах подобных зон избыточного правового регулирования свобода массовой информации оказывается существенно ограничена. Наиболее яркий пример – Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации». Задуманный как средство бюрократизации редакционной политики и обеспечения фракционного плюрализма, он ни одной из этих целей так и не достиг, поскольку по своей юридической органике не был приспособлен для правоприменения.
К числу избыточных с полным правом можно отнести так называемые закон о блогерах и закон о новостных агрегаторах, которые внесли в Закон об информации изменения, фактически приравнивающие эти интернет-ресурсы к СМИ. Представляется, что Закон о СМИ может быть приспособлен для регулирования деятельности в киберпространстве только в отношении интернет-СМИ («сетевых изданий»), но в отношении социальных сетей, агрегаторов информации, цифровых платформ, сервисов и т. п. – лишь при условии его трансформации в федеральный закон о массовых коммуникациях.
В законодательстве «распылено» немало единичных норм, регулирующих отношения в сфере массовых коммуникаций, но не входящих непосредственно в систему законодательства о средствах массовой информации. Наличие таких норм нельзя однозначно оценить как негативное явление, хотя оно, конечно, свидетельствует о недостаточной инкорпорации законодательства о массовых коммуникациях. Основная оценка должна зависеть от того, насколько та или иная норма вписывается в общую доктрину медиаправа.
Нередко именно через «распыленные» нормы в сферу регулирования массовых коммуникаций проникают положения, противоречащие Закону о СМИ. Например, Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает дополнительные основания для привлечения редакций СМИ к административной и гражданско-правовой ответственности за содержание распространенных сообщений и материалов. Лишь восемь лет спустя в законе появилось изъятие, согласно которому «производство, выпуск или распространение зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром». В законодательстве о выборах, напротив, нормы, касающиеся использования массовых коммуникаций, вполне уместны, однако они не всегда отличаются четкостью и последовательностью, что вынуждает обращаться в КС РФ для устранения правовой неопределенности.
В свою очередь, Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что «неопределенность содержания правовой нормы препятствует ее единообразному пониманию, ослабляет гарантии защиты конституционных прав и свобод, может привести к нарушению принципов равенства и верховенства закона; поэтому самого по себе нарушения требования определенности правовой нормы, влекущего ее произвольное толкование правоприменителем, достаточно для признания такой нормы не соответствующей Конституции Российской Федерации»[70].
Согласно правовой позиции высшего органа конституционного правосудия, «правовая норма должна отвечать общеправовому критерию формальной определенности, вытекающему из принципа равенства всех перед законом и судом (статья 19, части 1 и 2, Конституции Российской Федерации), поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии ясности, недвусмысленности нормы, ее единообразного понимания и применения всеми правоприменителями; напротив, неопределенность правовой нормы ведет к ее неоднозначному пониманию и, следовательно, к возможности ее произвольного применения, а значит – к нарушению принципа равенства всех перед законом и судом»[71].
Впрочем, правовая позиция КС РФ в вопросе о негативной роли правовой неопределенности не столь императивна, как может показаться. Так, в определении КС РФ от 20.12.2018 № 3154-О указано, что «отсутствие легальной дефиниции того или иного понятия само по себе не может рассматриваться как вносящее в правовое регулирование неопределенность, не позволяющую субъектам соответствующих правоотношений и правоприменительным органам осознавать и единообразно применять правила поведения, установленные нормами, в которых данное понятие используется». Более того, «требование определенности правового регулирования, обязывающее законодателя формулировать правовые предписания с достаточной степенью точности, позволяющей гражданину (объединению граждан) сообразовывать с ними свое поведение – как запрещенное, так и дозволенное, – вовсе не исключает использование оценочных или общепринятых понятий: законодатель не лишен возможности прибегать к ним, если значение таких понятий доступно для восприятия и уяснения субъектами соответствующих правоотношений либо непосредственно из содержания конкретного нормативного положения или из системы находящихся в очевидной взаимосвязи положений, либо посредством выявления более сложной взаимосвязи правовых предписаний, в частности с помощью даваемых судами разъяснений по вопросам их применения (постановления от 14 апреля 2008 года № 7-П, от 5 марта 2013 года № 5-П, от 8 апреля 2014 года № 10-П и др.)»[72].
Помимо законов правовой режим СМИ на федеральном уровне определяется также многочисленными указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), различными ведомственными инструкциями. В той части, в которой данные акты ограничивают свободу массовой информации, они противоречат положениям ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, устанавливающей, что подобные ограничения могут вводиться только федеральным законом и только в строго определенных целях. Кроме того, в этой части они противоречат Закону о СМИ, согласно которому свобода массовой информации может быть ограничена только законодательством о СМИ (ст. 1), которое, в свою очередь, издается в соответствии с Законом о СМИ (ч. 1 ст. 5).
Подобные противоречия, по идее, невозможны в правовом государстве, опирающемся на принцип верховенства права. Как подчеркивает В. А. Виноградов, «правовое государство и верховенство права могут идеологически, политически, юридически подменяться верховенством посредством права (или закона), что свойственно формуле полицейского государства, которое, в отличие от правового, основывается на том, что цель оправдывает средства»[73].
ЗаконодательствоТенденции развития российского законодательства о массовых коммуникациях. Изменение и дополнение Закона о СМИ. Региональное нормотворчество в сфере массовых коммуникаций.
Тенденции развития российского законодательства о массовых коммуникациях. Возникшее в нашей стране в начале 1990-х годов правовое регулирование массовых коммуникаций в дальнейшем показало довольно высокий уровень изменчивости при последовательном сохранении следующих основных тенденций:
• общее возрастание числа норм, регулирующих сферу массовых коммуникаций;
• расширение предмета правового регулирования путем, во-первых, включения СМИ, распространяемых в интернете (так называемые сетевые издания), в понятие «средства массовой информации», а во-вторых, фактического приравнивания к СМИ новостных агрегаторов через Закон об информации;
• сочетание преемственности в регулировании наиболее важных, базовых общественных отношений с изменчивостью правовой политики применительно к другим отношениям в сфере массовой информации (например, неизменность понятия цензуры сочетается с высокой подвижностью понятия «злоупотребление свободой массовой информации»);
• оставление вне сферы правового регулирования целого ряда важных вопросов функционирования СМИ (например, особенностей экономических отношений в сфере СМИ с учетом необходимости обеспечения информационного плюрализма в обществе);
• последовательное наращивание ограничений в отношении иностранного участия в медиабизнесе;
• расширение пробелов в правовом регулировании сферы массовых коммуникаций (например, порядок работы журналистов, освещающих контртеррористические операции, законодательно не определен, тогда как его нарушение рассматривается в ст. 2 Закона о СМИ как злоупотребление свободой массовой информации);
• последовательное расширение понятия «злоупотребление свободой массовой информации»;
• последовательное увеличение числа оснований и процедур приостановления и прекращения выпуска СМИ, признания регистрации СМИ недействительной;
• увеличение с помощью специальных законов, не относящихся к законодательству о СМИ, количества ограничений в отношении прав журналистов, установленных Законом о СМИ (например, с 2016 г. присутствовать на избирательных участках в день голосования вправе только аккредитованные представители СМИ);
• увеличение числа составов административных правонарушений в сфере массовых коммуникаций;
• усиление ответственности за административные правонарушения и уголовные преступления, совершенные с использованием массовых коммуникаций.
При этом неизменной остается конституционная база правового регулирования массовых коммуникаций, так же как и структурообразующий характер Закона о СМИ.
За десятилетия, прошедшие после принятия Закона о СМИ, появились многочисленные законы, касающиеся:
• правового режима информации:
«О государственной тайне»,
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
• отдельных видов массовых коммуникаций и отдельных аспектов их деятельности:
«О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации»,
«О противодействии экстремистской деятельности»,
«О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации» (утратил силу в 2004 г.),
«Об экономической поддержке районных (городских) газет» (утратил силу в 2004 г.),
«О связи»,
«О рекламе»,
«О таможенном тарифе»,
«Об обязательном экземпляре документов»,
«Об электронной подписи»,
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
«О лицензировании отдельных видов деятельности»,
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и др.
В некоторых из них, например в Федеральном законе от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации», прямо указывается на его принадлежность к законодательству о СМИ, в других же такое упоминание отсутствует.
Изменение и дополнение Закона о СМИ. Начиная с 1993 г. отечественные парламентарии неоднократно пытались радикально пересмотреть Закон о СМИ, стремясь прежде всего ограничить гарантированную Конституцией РФ свободу массовой информации. Однако ни одна инициатива, предполагающая создание принципиально нового структурообразующего закона в этой сфере или даже новой версии существующего закона, как это случилось, например, с Законом об информации в 2006 г., не имела успеха. Правда, это не мешает законодателю последовательно вносить в закон изменения и дополнения, многие из которых, хотя и не поколебали его концепцию, но серьезно нарушили его архитектонику, логическую стройность, концептуальную цельность. В некоторых случаях даже, казалось бы, незначительные, чисто юридико-технические поправки оказывались некорректными и контрпродуктивными.
За более чем три десятилетия действия Закона о СМИ четко сформировались определенные тенденции, связанные с его изменением.
Во-первых, законодатель, хотя и далеко не сразу, исправил некоторые ошибки, допущенные при создании закона. Например, изначальную юридико-логическую ошибку, связанную с некорректным использованием понятия «средства массовой информации» при конструировании ряда норм. Она состояла в том, что в латентно-дефектных нормах СМИ понималось не как объект, а как субъект правоотношений, чья деятельность может быть урегулирована, организована, приостановлена, прекращена, возобновлена и т. д.[74]
Хотя большинство дефектных норм не исправлены до сих пор, в некоторых новых нормах эта ошибка уже не повторяется. Так, ст. 6.1 объединяет всех субъектов правоотношений, складывающихся на основе данного нормативного правового акта, понятием «лица, осуществляющие деятельность в области средств массовой информации», а ст. 16.1 вместо «приостановления деятельности» СМИ говорит о «приостановлении выпуска» СМИ (подробнее об этом см. в § 2.1).
Во-вторых, очевидной тенденцией в изменении Закона о СМИ стало последовательное расширение понятия «злоупотребление свободой массовой информации». Начиная с 1995 г. ст. 4 «Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации» Закона о СМИ подвергалась изменениям не менее полутора десятков раз. При этом оказался полностью разрушен концептуальный подход к определению данного понятия, который основывался на том, что злоупотребление свободой массовой информации заключается в использовании средства массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, т. е. наиболее общественно опасных деликтов (подробнее об этом см. в § 3.3).
В-третьих, еще одна явная тенденция в изменении Закона о СМИ – увеличение оснований для приостановления и прекращения производства и выпуска СМИ. Это стало результатом:
а) многократного расширения перечня видов злоупотребления свободой массовой информации (ст. 4);
б) установления возможности прекращения производства и выпуска СМИ в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;



