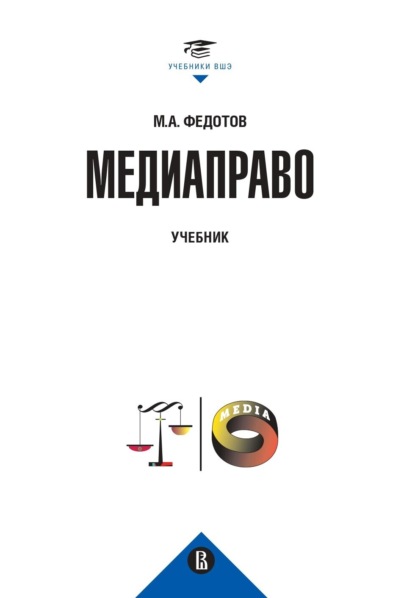
Полная версия:
Медиаправо: доктрина, законодательство, правоприменение
в) введения процедуры приостановления выпуска СМИ до окончания избирательной кампании за неоднократное нарушение избирательного законодательства;
г) введения процедуры приостановления выпуска СМИ в связи с нарушением запретов и ограничений, связанных с иностранным участием;
д) введения процедуры внесудебного приостановления выпуска СМИ на срок до шести месяцев по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей;
е) введения процедуры признания регистрации СМИ недействительной по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей (подробнее см. в гл. 5).
В-четвертых, Закон о СМИ за последние три десятилетия неоднократно пополнялся нормами, призванными ограничить иностранное участие в медийной отрасли, чтобы тем самым предотвратить вмешательство других государств во внутренние дела России. В его изначальной редакции подобные ограничения также имели место: иностранные граждане и апатриды, не проживающие постоянно на территории РФ, не имели права учреждать средства массовой информации. Начиная с 2001 г. последовательно вводились ограничения в отношении иностранного участия в капитале учредителей СМИ, издателей, вещателей. Сначала это касалось только федеральных телерадиокомпаний, а верхняя граница участия устанавливалась на уровне 50 %. В 2014 г. предельный уровень иностранного участия был снижен до 20 % и распространен на все без исключения СМИ (подробнее см. в гл. 7).
В-пятых, важной позитивной тенденцией в изменении Закона о СМИ стало его приближение к потребностям развития современной экосистемы массовых коммуникаций. Это выразилось, в частности, в появлении института сетевых изданий (подробнее об этом см. в § 2.3).
Представляется, что Закон о СМИ далеко не исчерпал свой потенциал, однако нуждается в серьезной корректировке.
Во-первых, необходимо привести Закон в терминологическое соответствие с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами (например, «О военном положении»), ГК РФ, УК РФ и другими кодексами, с Законом об информации, иными федеральными законами. В частности, термин «возмещение морального вреда», использующийся в ст. 62 Закона о СМИ, должен быть заменен на «компенсацию морального вреда», чтобы не порождать противоречия со ст. 151, 1099, 1100 и 1101 ГК РФ (подробнее см. в гл. 11).
Во-вторых, целесообразно исправить те юридико-логические дефекты, которые изначально имелись в Законе о СМИ или образовались в результате внесения в него изменений и дополнений. Например, в 2007 г. в ст. 4 были включены нормы, касающиеся порядка освещения в СМИ контртеррористических операций. Данные нормы нарушают не только структуру статьи, озаглавленной «Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации», но и общую архитектонику Закона о СМИ. В связи с этим целесообразно исключить данные нормы из ст. 4 и одновременно дополнить Закон двумя статьями, первая из которых установит общие правила распространения в СМИ информации о террористическом акте и контртеррористической операции, а вторая определит особые условия работы журналистов в зоне проведения такой операции (подробнее об этом см. в § 9.3).
В-третьих, следует восполнить имеющиеся в Законе о СМИ пробелы, связанные с формированием новой экосистемы массовых коммуникаций, в которой понятие СМИ подлежит расширению и уточнению (подробнее см. в гл. 2).
В-четвертых, целесообразно дополнить Закон нормами, касающимися саморегулирования в сфере массовой информации. В качестве ориентира могут быть взяты нормы Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в котором данной теме посвящена отдельная глава.
Наконец, в-пятых, очевидной перспективой Закона о СМИ является его постепенная трансформация в федеральный закон о массовых коммуникациях, призванный не только упорядочить существующую нормативно-правовую базу в этой сфере, но и системно урегулировать складывающиеся в современной медийной экосистеме общественные отношения при безусловном сохранении тех демократических принципов, которые были в него заложены в 1991 г. и не потеряли своей актуальности по сей день.
Региональное нормотворчество в сфере массовых коммуникаций. До 2005 г. в нескольких десятках субъектов РФ действовали собственные законы, регулировавшие отдельные вопросы организации и функционирования СМИ. В большинстве своем они касались экономической поддержки региональных СМИ, освещения в государственных и муниципальных СМИ деятельности соответствующих органов власти и самоуправления, распространения продукции специализированных эротических СМИ. Среди наиболее удачных – законы Чувашии, Красноярского края, Архангельской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Свердловской и Тверской областей.
В тот период в четырех субъектах РФ (Адыгея, Башкортостан, Кабардино-Балкария, ХМАО – Югра) действовали комплексные региональные законы «О средствах массовой информации». Они были не только менее демократичны, чем федеральный закон, но и зачастую откровенно игнорировали его. Так, Кодекс Республики Башкортостан о средствах массовой информации (ст. 64) даже не упоминал федеральный Закон о СМИ, а журналистов, представлявших «внереспубликанские» СМИ, т. е. зарегистрированные на федеральном уровне или в других субъектах РФ, приравнивал к иностранным корреспондентам. Создатели Кодекса не остановились перед изменением предмета регулирования данного нормативного акта, распространив его действие на «компьютерную информацию» и создав тем самым проблему его сопряжения с другими источниками информационного права. Они расширили перечень составов злоупотребления свободой массовой информации, включив сюда «использование выражений и аудио-видеопродукции, оскорбляющих человеческое достоинство».
Кодекс открывал лазейки для воссоздания органов цензуры, устанавливая, что «недопустимость цензуры» не распространяется на «случаи, предусмотренные действующим законодательством». Он вводил дополнительные требования при регистрации СМИ, расширял перечень оснований для отказа в регистрации, для признания свидетельства о регистрации недействительным, для прекращения деятельности СМИ и т. д. В то же время Кодекс существенно ограничивал самостоятельность редакций в пользу учредителей, урезал их возможности по защите своих интересов, поскольку не содержал норм об условиях освобождения редакций и журналистов от ответственности. По всем перечисленным и многим другим позициям этот нормативный правовой акт явно противоречил нормам федерального Закона о СМИ.
В то же время Кодекс содержал интересные правовые решения ряда проблем, не затронутых федеральным законодательством. Так, он включал статью о недопустимости монополизации СМИ: «Ни один учредитель не вправе иметь в собственности, владении, пользовании, управлении более тридцати процентов всех средств массовой информации, зарегистрированных (осуществляющих деятельность) в республике».
Напротив, законы о СМИ Кабардино-Балкарской Республики и ХМАО – Югры отличались предельной близостью к федеральному закону. Имевшиеся здесь расхождения были незначительны. В то же время можно только приветствовать попытку регионального законодателя установить административную ответственность за введение цензуры, монополизацию СМИ, незаконный отказ в регистрации СМИ, воспрепятствование распространению продукции СМИ, злоупотребление правами журналиста, оказание давления на руководство редакции и т. д.
Порой в региональном законодательстве принимались довольно экзотичные нормативные правовые акты. Так, с 1991 по 2002 г. в Татарстане действовал закон, который устанавливал административную ответственность в виде штрафа с конфискацией продукции СМИ за публичное оскорбление или клевету в отношении главы республики. С 2000 по 2002 г. действовал Закон г. Москвы «Об административной ответственности за злоупотребление свободой распространения информации», который предусматривал большие штрафы за распространение печатных изданий и иной продукции СМИ, призывавших к насильственному захвату власти, либо направленных на разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной ненависти и вражды, либо пропагандирующих агрессивную войну. Исключение делалось для материалов, которые «представляют собой описание исторических событий».
Анализ регионального законодательства о СМИ позволил группе отечественных правоведов разработать в начале 2000-х годов Модельный закон о СМИ, призванный стать неким лекалом для законодателей в субъектах РФ[75]. Однако этот проект не имел продолжения, поскольку печально знаменитый «закон о монетизации льгот», о чем говорилось выше, произвольно лишил субъекты РФ возможности осуществлять правотворчество в сфере массовых коммуникаций. После этого региональные власти были вынуждены под давлением прокуратуры отменить свои законы, действовавшие в этой сфере. Попытки оспорить требования прокуратуры в судебном порядке успеха не имели.
ПравоприменениеВ сфере массовых коммуникаций следует различать административное правоприменение и судебное правоприменение.
Административное правоприменение осуществляется федеральным органом исполнительной власти, на который Правительством РФ возложен надзор за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций. В разные периоды времени это федеральное ведомство именовалось по-разному: Государственная инспекция по защите свободы печати и массовой информации при Министерстве печати и информации РФ, Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Росохранкультура), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Судебное правоприменение в сфере массовых коммуникаций осуществляется судом. Учитывая роль СМИ как института демократического правового государства, законодатель установил более высокий уровень подсудности для рассмотрения дел о прекращении производства и выпуска СМИ. Согласно КАС РФ, дела о прекращении выпуска средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения на территории одного субъекта РФ, относятся к подсудности соответствующего республиканского Верховного Суда, областного, краевого суда (ст. 20). Если же продукция СМИ предназначена для распространения на территории двух и более субъектов РФ, то дела о прекращении их выпуска относятся уже к подсудности Верховного Суда РФ (ст. 21).
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Определите понятие медиаправа как комплексной отрасли права.
2. В чем специфика метода правового регулирования, присущего медиаправу как подотрасли информационного права?
3. Каковы источники медиаправа?
4. Какое место медиаправо занимает в системе российского права и законодательства?
5. Охарактеризуйте систему нормативного регулирования средств массовой информации и пропаганды в Советском Союзе.
6. Как повлиял Закон СССР о печати на развитие свободы массовой информации в Российской Федерации?
7. Каково значение Закона о СМИ для развития отечественного законодательства?
8. В чем состоит структурообразующий характер Закона о СМИ?
9. Расскажите о тенденциях изменения российского законодательства о массовых коммуникациях.
10. Приведите примеры пробелов и избыточности в законодательстве о массовых коммуникациях.
Глава 2. Массовые коммуникации как объект права
В результате изучения данной главы обучающийся должен
знать:
• основные и производные понятия медиаправа;
• правовые признаки СМИ;
• черты сходства и различия наименования (названия) СМИ и товарных знаков, фирменных наименований как средств индивидуализации;
• особенности правового регулирования интернет-медиа;
• специфику зарубежного опыта правового регулирования интернет-медиа;
уметь:
• различать и классифицировать формы и виды СМИ;
• объяснить родовидовые связи между понятиями, входящими в тезаурус медиаправа;
• описать особенности наименования (названия) СМИ в качестве средства индивидуализации (идентификации);
• охарактеризовать критерии и индикаторы, предлагаемые для определения так называемого нового понятия СМИ;
• объяснить причину неудачи «закона о блогерах»;
владеть:
• понятийным аппаратом медиаправа;
• совокупностью методологических приемов работы с источниками медиаправа.
§ 2.1. Массовые коммуникации как объект правового регулирования
ДоктринаТезаурус медиаправа. Понятие средства массовой информации. Правовые признаки СМИ. Формы распространения массовой информации и виды СМИ.
Тезаурус медиаправа. Тезаурусом, или глоссарием, обычно называют собрание специальных терминов, принятых в определенной области знания, практической деятельности, профессии и т. д. Филологи изучают тезаурусы, например, Шекспира или «Войны и мира», историки – тезаурус «Повести временных лет», лингвисты – тезаурус русских идиом и т. д. Юридическая наука не только исследует тезаурусы отдельных отраслей права или законодательства, но и конструирует их, предлагая законодателю готовый комплекс правовых понятий и их определений.
Как отмечает В. Б. Исаков, критически оценивая законодательную практику последних лет, следует «принять меры для упорядочения языка и терминологии законодательства. Необходимо создание многоязычных электронных словарей-тезаурусов, а еще лучше – электронных энциклопедий юридической терминологии. Каждый вновь принимаемый документ должен проходить экспертизу на соответствие терминологическим стандартам. Законодатели должны сознавать, что непрерывная кодификация юридической терминологии – одна из базовых основ законотворчества, без которой оно не может быть системным и эффективным»[76].
Тезаурус не только отражает актуальное состояние законодательства, но и образует необходимую терминологическую базу для реализации перспектив LegalTech. И чем выше качество тезауруса, тем более эффективным будет его использование в качестве важнейшего элемента информационно-правовых систем, для автоматического поиска информации, автоматизированного индексирования и реферирования нормативных текстов, генерирования юридических документов.
Основой тезауруса нормативного правового акта или, как в данном случае, комплексной отрасли права являются иерархические отношения составляющих его терминов, их родовидовая связь, которая требует максимального раскрытия семантических отношений между терминами. Они «относятся к категории логических отношений, или отношений подобия (аналогии), и базируются на внутренних связях между отдельными свойствами и качествами понятий, на какой-либо их общей характеристике. Они иерархичны, и иерархичность проявляется в том, что каждый класс является видом одного более высокого в иерархической цепи и родом по отношению к классам, расположенным ниже»[77].
Тезаурус законодательства о массовых коммуникациях сосредоточен прежде всего в ст. 2 Закона о СМИ. Базовым здесь является понятие массовой информации, которое определено как «предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Принимая во внимание, что между понятием «массовая информация» в Законе о СМИ и понятием «информация» в Законе об информации имеется очевидная родовидовая связь, обратимся к этому последнему закону.
В тезаурусе Закона об информации понятие «информация» определено следующим образом: «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления» (п. 1 ст. 2). Проведя логическую операцию – подстановку терминов, получим следующее определение: «массовая информация – сведения (сообщения, данные), предназначенные для неограниченного круга лиц в форме печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов».
Такое определение вполне могло бы удовлетворять потребности медиаправа пока не появился феномен омнимедиа, главная характеристика которого – персонализация информационного продукта. «Облачные вычисления и технологии больших данных, – пишет Ю. М. Батурин, – позволяют медиакомпаниям собирать информацию о местоположении, привычках и предпочитаемых каналах индивидуумов, составляющих их аудиторию, чтобы предоставлять им индивидуальные программы в любое время, в любом месте и в любой желаемой форме. Новостная платформа омнимедиа выполняет “интеллектуальное” (с помощью искусственного интеллекта) обнаружение контента для последующего объединения, выполняет анализ тем с помощью облачных вычислений и анализа больших данных, в режиме реального времени формирует свежие новости, предоставляет справочные данные для планирования выпуска новостей и – далее – персонифицированного обслуживания потребителя»[78].
По мнению Ю. М. Батурина, «термины “СМИ” и “массмедиа” уже не могут применяться к омнимедиа: массовая информация в СМИ предназначена для неопределенного круга лиц. В омнимедиа же информация существует в «массовом состоянии» только до завершения этапа сбора информации; после этого происходит индивидуализация информационного пакета для конкретного потребителя. Для таких медиа Ю. М. Батурин предлагает термин «интегрированные средства информации» (ИСИ). «ИСИ представляют собой омнимедийную платформу, объединяющую новостное агентство, газету, радио, телевидение, интернет и другие медиа, выступающие под единым логотипом. Персонализация информации в омнимедиа – хороший шанс снять неопределенность отношений между правом массовой информации и информационным правом, возникшую в результате частичного пересечения объектов регулирования (достаточно сравнить статьи законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О средствах массовой информации»). Сегодня, когда СМИ в основном ушли в интернет, они частично сменили регулятор – право массовой информации на информационное право»[79]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Кант И. Соч.: в 4-х т.; на нем. и рус. яз. Т. 1. М.: Изд. фирма АО «Ками», 1993. С. 383.
2
Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке и Австралии. М.: Права человека, 1996; Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации: сб. / науч. коммент. д.ю.н. М. А. Федотова. М.: Фирма «Гардарика», 1996; Законы и практика СМИ в одиннадцати демократиях мира. Сравнительный анализ. М.: Права человека, 1998; Законы и практика средств массовой информации в странах СНГ и Балтии / науч. ред. В. Н. Монахов. М.: Галерия, 1999; Комментарий к Закону РФ о СМИ. 3-е изд. М.: Стэнси, 2002; Куликова С. А. Конституционный запрет цензуры в России: моногр. М.: Проспект, 2016; Потапенко С. В., Осташевский А. В. Диффамация в СМИ: Проблемы права и журналистики: учеб. пособие / КГУ. Краснодар: Советская Кубань, 2001; Ульбашев А. Х. Правовые и этические основы журналистики: учеб. для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024; Федотов М. А. Право массовой информации в Российской Федерации. М.: Междунар. отношения, 2002; и т. д.
3
Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики. М.: МедиаМир, 2014; Вартанова Е. Л. Теория медиа: отечественный дискурс. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2019; Засурский Я.Н. Искушение свободой. Российская журналистика: 1990–2007: сб. статей. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007; Панкеев И.А. Правовое регулирование СМИ: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2019; Прохоров Е.П. Обеспечение информационной безопасности в деятельности СМИ. М.: Фак-т журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009; Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики: хрестоматия. М.: ВК, 2009; Рихтер А. Г. Правовые основы интернет-журналистики: учеб. М.: ИКАР, 2014; и т. д.
4
https://vuzopedia.ru/region/city/83/program/magistratura/4464.
5
https://www.consultant.ru.
6
http://www.cdep.ru/?id=79.
7
Тихомиров Ю. А. Систематика в праве в условиях глобальной нестабильности // Журнал российского права. 2022. Т. 26. № 5. С. 5–18.
8
Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. 2-е изд., доп. М.: Норма, 2010. С. 558.
9
Российская наука медиаправа отпочковалась от науки информационного права вскоре после принятия Закона о печати и Закона о СМИ в начале 1990-х годов. У ее истоков стояли Ю. М. Батурин, И. Л. Бачило, А. Б. Венгеров, В. А. Кряжков, В. Н. Монахов, А. Г. Рихтер, Р. А. Сафаров, М. А. Федотов, В. Л. Энтин и др. См., например: Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права. М. Юрид. литература, 1991; Бачило И. Л. Информационное право: учеб. 5-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2016. (Авторский учебник); Судебная палата по информационным спорам при Президенте Российской Федерации: 1994–1996. Нормативные акты. Практика. Комментарии / под ред. д.ю.н., проф. А. Б. Венгерова. М.: Право и Закон, 1997; Кряжков В.А. Информация в советской представительной системе (правовые и организационные проблемы). Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987; Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики: учеб. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002; Сафаров Р. А. Общественное мнение и государственное управление. М.: Юрид. литература, 1975; Федотов М. А. Свобода печати – конституционное право советских граждан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1976; Энтин В. Л. Государственно-правовой механизм ограничения свободы печати в капиталистических странах: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1978.
10
См.: Федотов М. А. Право массовой информации в Российской Федерации. М.: Междунар. отношения, 2002. С. 38–44.
11
Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики: учеб. 2-е изд., испр. и доп. М.: ВК, 2009. С. 14.
12
Головина А. А. Критерии образования самостоятельных отраслей в системе российского права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 3.
13
Городов О. А. Цифровое право как подотрасль информационного права // Право и цифровая экономика. 2021. № 1 (11). С. 38.
14
Актуальные проблемы информационного права: материалы круглого стола. Москва, ИМПЭ. 27 января 2000 г. // Труды по интеллектуальной собственности. 2000. Т. 2. С. 29.
15
См.: Батурин Ю. М. Метаморфозы информационного права // Трансформация информационного права. М.: ИГП РАН, 2023. С. 23–37.
16
Труды по интеллектуальной собственности. 2000. Т. 2. С. 18. https://www.hse.ru/data/ 2021/02/28/1395782402/2.tis-1999_2.pdf (дата обращения: 01.09.2024).
17
См.: Fuentes-Camacho T. (ed.). The International Dimensions of Cyberspace Law. Paris: UNESCO Publishing, 2000.
18
См., например: Рекомендация ЮНЕСКО о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству от 15.10.2003 // Официальный сайт ООН: https://www.un.org/ru/documents/treaty/multilingualism_recommendation-2003 (дата обращения: 29.10.2024).
19
Виноградов В. А., Масленникова С. В., Мазаев В. Д. Конституционное право России: учеб. М.: Эксмо, 2022. С. 185–186.
20
Алексеев С. С. Собр. соч.: в 10 т. М.: Статут, 2010. Т. 7. С. 141.
21
См.: Lessig L. Reading the Constitution in Cyberspace. https://perma.cc/3PP2–5PZZ.
22
Венгеров А. Б., Барабашева Н. С. Нормативная система и эффективность общественного производства. М.: Изд-во МГУ, 1985. С. 14–35.
23
Пункт 6 Софийской декларации ЮНЕСКО. Принята 13.09.1997 в Софии на Европейском семинаре по укреплению независимых и плюралистических средств информации.



