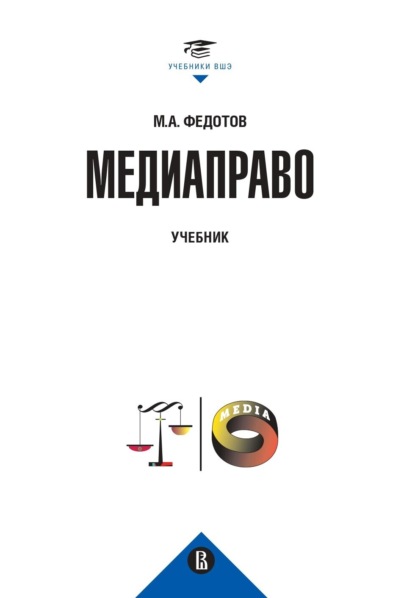
Полная версия:
Медиаправо: доктрина, законодательство, правоприменение
Согласно доктрине, медиаправо – это самостоятельная комплексная отрасль права и одновременно подотрасль информационного права, объединяющая на основе конституционного института свободы массовой информации совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих правовых норм, регулирующих относительно обособленную группу общественных отношений, возникающих в сфере массовых коммуникаций в связи с обеспечением их организации и функционирования в качестве одного из важнейших институтов гражданского общества и демократического правового государства.
Тезис о формировании медиаправа как комплексной отрасли права и одновременно подотрасли информационного права был сформулирован автором этой книги еще в начале 2000-х годов[10]. С такой позицией соглашается, в частности, А. Г. Рихтер, указывая, что «законодательство о СМИ, сформировавшееся в 1990-е гг. как отрасль российского законодательства, в настоящее время перерастает в отрасль права в широком смысле этого понятия»[11].
Каковы аргументы в обоснование такой позиции? Прежде всего обратим внимание на то, что нормы, непосредственно связанные с организацией и функционированием массовых коммуникаций в качестве одного из важнейших институтов гражданского общества и демократического правового государства, существуют не только в различных нормативных правовых актах, но и в разных отраслях права. Объединенные общностью предмета правового регулирования – общественных отношений, непосредственно связанных с организацией и функционированием медиа, – эти нормы образуют вторичную юридическую целостность в системе права, не нарушая при этом архитектонику основных, профилирующих отраслей и не выходя из их структуры.
Отметим, что споры о том, является ли та или иная совокупность правовых норм, регулирующих специфическую область общественных отношений, отраслью права, не утихают уже много десятилетий. Достаточно вспомнить дискуссии сторонников и противников «государственного» и «конституционного» права, «хозяйственного» права, «аграрного» права, а в последнее время – «цифрового» права. По подсчетам А. А. Головиной, «в современной правовой науке резко возросло количество попыток обосновать наличие в системе права той или иной “новой” самостоятельной отрасли. Всего таких “новых” отраслей предлагается уже около шестидесяти…»[12]. Подобное явление в науке – далеко не новость: автор еще в 80-х годах прошлого века шутил на лекциях о скором пришествии «банно-прачечного права».
Медиаправо, как и другие подобные юридические образования, является комплексным в том смысле, что входящие в него нормы, как правило, связаны общностью предмета правового воздействия, но не единством метода правового регулирования. К числу подобных комплексных образований относятся финансовое право, экологическое право, космическое право, информационное право и т. д. Как отмечает О. А. Городов, «комплексные отрасли заимствуют у нескольких профилирующих отраслей часть их норм, имеют свой предмет регулирования, но не имеют специфического метода»[13].
Сам факт существования вторичных, комплексных юридических целостностей, которые объединяют нормы различных отраслей как права, так и законодательства, легко доказывается с помощью пространственно-правовых логических абстракций, опирающихся на известные факты принадлежности отдельных норм одновременно к нескольким отраслям права и размытость границ отраслевых предметов регулирования.
Представление о медиаправе как подотрасли информационного права и одновременно самостоятельной комплексной отрасли права разделяют не все правоведы. Так, классик отечественной науки информационного права И. Л. Бачило писала, что далеко не всё, относящееся к праву массовой информации, может быть включено в общую структуру информационного права. «То, что регулируется Законом о СМИ, – отмечала она, – это совершенно другая сфера отношений. Информационного права касаются только предметы информационного характера, которые включаются в систему информационных ресурсов и находятся в системе СМИ, в том числе и в системе Интернет»[14]. Подобный подход представляется логическим продолжением ограничительного толкования предмета информационного права, когда он практически сводится к предмету Закона об информации.
Ю. М. Батурин обрашает внимание на то, что информационное право возникло намного позднее медиаправа. Если рождение медиаправа можно датировать временем принятия Закона о печати (1990 г.), то для информационного права он предлагает в качестве точки отсчета 2000 г., когда последнее было впервые включено в номенклатуру научных специальностей в области юридических наук[15]. Однако представляется, что время рождения той или иной отрасли не может определять ее место в общей системе законодательства, права, юридической науки, поскольку приоритет должен быть отдан другому критерию, а именно специфике предмета правового регулирования.
Подчеркнем, что существующие ныне пробелы в правовом регулировании организации и функционирования медиа нередко восполняются с помощью норм, принадлежность которых к классическим, профилирующим отраслям права – конституционному, административному, гражданскому, уголовному, а также к процессуальным отраслям права может оказаться невыраженной. Так, норму о праве редакции СМИ на запрос информации (ст. 39 Закона о СМИ) нельзя однозначно отнести ни к одной из профилирующих отраслей права. Именно из таких норм в первую очередь и складывается собственное «тело» медиаправа как комплексной отрасли права. Одновременно из законодательных актов, регулирующих организацию и функционирование массовых коммуникаций, складывается право массовых коммуникаций как отрасль законодательства.
Метод медиаправа. Медиаправо как комплексная отрасль права не имеет собственного метода правового регулирования: оно использует методы профилирующих отраслей права, поскольку включает в свой континуум их нормы, а также, будучи подотраслью информационного права, – его специфический метод правового регулирования. Специфика этого метода связана с применением информационного права в информационно-телекоммуникационных сетях, в условиях использования цифровых технологий.
Именно развитие цифровых технологий и информационно-телекоммуникационных сетей дает основание для выдвижения гипотезы об особом методе правового регулирования, присущем только информационному праву, а следовательно, и медиаправу как его подотрасли. В ходе круглого стола в МГЮА 27.01.2000 автором была озвучена следующая гипотеза: «информационное право будет иметь свой особый метод правового регулирования, ибо он, в первую очередь, будет осуществляться в телекоммуникационных сетях, в киберпространстве. Иными словами, человек будет не просто пользоваться телекоммуникационными сетями, он будет вступать в правовые отношения, испытывать на себе правовое регулирование через телекоммуникационные сети, внутри телекоммуникационных сетей. Уже сегодня мы имеем в телекоммуникационных сетях и гражданско-правовые сделки… и многое другое. Но правовое регулирование через Интернет только зарождается»[16]. Именно в этом состоит суть особого метода правового регулирования, присущего исключительно информационному праву, а значит, и медиаправу как его подотрасли.
Отметим, что термин «киберпространство» не используется в российском законодательстве, в отличие от зарубежного, прежде всего англоязычного, где категории «cyberspace», «cybercrime» и т. д. широко применяются как в нормативных актах, так и в научных дискуссиях[17]. Укоренился этот термин и в документах международных организаций системы ООН[18]. Чтобы обеспечить общность юридического языка, предлагается определить киберпространство в терминах отечественного информационного законодательства как совокупность информационно-телекоммуникационных сетей.
Высказанная автором этого учебника почти четверть века назад гипотеза об особом методе правового регулирования, присущем информационному праву, уже получила практическое подтверждение. Появились государственные и межгосударственные органы, работающие непосредственно в киберпространстве. Это специализированные службы, осуществляющие мониторинг правопорядка в коммуникационной среде и следящие за экологией информации, суды, в том числе третейские, принимающие по интернету иски, заслушивающие стороны и выносящие решения. В киберпространстве уже осуществимо и исполнение судебных решений, во всяком случае тех, которые связаны с арестом банковского счета, наложением штрафа, ограничением доступа к информационному ресурсу, возмещением ущерба и т. д.
Но для того чтобы государство нашло себя в киберпространстве, оно должно определить там границы своего суверенитета и юрисдикции. Трансграничный интернет не признает государственных границ.
Государственный суверенитет не знает понятия киберпространства. В этом смысле государство и интернет существуют как бы в параллельных мирах.
Различия между географическим пространством и киберпространством принципиальны. В географическом пространстве коммуникацию осуществляют территориально определенные субъекты. Практически все законодательство, а в конечном счете и органы правопорядка имеют дело с материальными, осязаемыми предметами, находящимися на территории соответствующего государства. Однако в любой цифровой сети мы можем легко переключаться с материальной на нематериальную форму информации и перемещать ее в географическом пространстве, управляя ею с клавиатуры компьютера или смартфона. В киберпространстве процесс коммуникации протекает в условиях разрастания плотных, взаимосвязанных и весьма удаленных друг от друга сетей, в которых неминуемо возрастает число конфликтов как частноправового, так и публично-правового характера.
Особенности действия норм информационного права и, в частности, медиаправа в киберпространстве предопределяют необходимость скорейшей разработки и принятия соответствующей международной конвенции. Такая конвенция должна была бы установить, во-первых, зоны национальной юрисдикции в интернете по аналогии, например, с деятельностью в Арктике, а во-вторых, общие правила дозволения, обязывания и запрета в отношении деятельности в трансграничных компьютерных сетях, исходя из этического постулата «разрешено все, что не запрещено, но то, что запрещено офлайн, должно быть запрещено и онлайн». Опыт формирования международного космического права оказался бы весьма полезен в качестве образца при создании актов международного права, призванных регулировать деятельность в киберпространстве.
Цели медиаправа. Правовое регулирование в сфере массовых коммуникаций призвано обеспечить благоприятные условия для реализации следующих целей:
• свободного функционирования массовых коммуникаций как одного из важнейших институтов гражданского общества и демократического правового государства;
• надежной защиты интересов личности, общества и государства, прав юридических и физических лиц в сфере массовых коммуникаций.
Право должно коснуться всех общественных отношений в данной сфере, но необязательно в смысле их непосредственного регулирования, а в смысле как минимум их ориентирования на права человека как высшую конституционную ценность (ст. 2 Конституции РФ), на такие конституционные ценности, как свобода выражения мнений и массовой информации, политическое и идеологическое разнообразие, честь и достоинство личности, право на информацию и т. д. В этом плане особую роль играют нормы-принципы, которые закреплены в Конституции РФ и конкретизируются в Законе о СМИ. Как отмечает В. А. Виноградов, «Конституция как источник норм-целей, норм-принципов и норм-определений позволяет закладывать в содержание ее норм ценности, которые рассчитаны на будущее воплощение и позволяют конструировать желаемый образ общества и государства»[19].
Не менее важно правовое регулирование общественных отношений, субъекты которых имеют противоположные интересы в сфере массовых коммуникаций. Наглядным примером может служить вопрос о праве на доступ к информации: обычно чиновник заинтересован в сокрытии компрометирующих его сведений, а журналист, напротив, в их получении и распространении как способе защиты общественных интересов. Средством разрешения конфликта в данном случае может быть только правовое установление и деятельность по его реализации. При этом большое значение имеют процедурные нормы, содержащие процессуально-правовые гарантии реализации прав, предоставленных нормами материального права.
Отсюда, однако, не следует, что детальную правовую регламентацию всех общественных отношений в сфере массовых коммуникаций надо безоговорочно признать объективным социальным благом. Напротив, чрезмерная заурегулированность общественных отношений не менее вредоносна, чем существование пробелов в праве. «Осуществление высшего предназначения права, – писал С. С. Алексеев, – обеспечить и упорядочить свободу личности, суверенного человека, – предполагает, помимо иных моментов, известную регламентацию действий, осуществляемых людьми по собственной воле. Такая регламентация при господстве диктаторских, авторитарных режимов может быть направлена не на обеспечение свободы, а на ее подавление и в этой связи достигать весьма высокой степени “заурегулированности”. Тогда людям предоставляется лишь строго “дозированная” свобода, да притом в виде “права по разрешению” – тому разрешению, которое дают (или не дают) государственные инстанции, чиновники»[20].
Законодательное регулирование по принципу «разрешено все, что не запрещено законом» не только в большей степени соответствует природе демократического правового государства, нежели противоположный принцип, но также позволяет существенно повысить роль других социальных регуляторов, включая столь важные в сфере массовых коммуникаций правила профессиональной этики, корпоративные нормы и т. д.
Нормативный плюрализм в регулировании сферы массовых коммуникаций. Сфера массовых коммуникаций регулируется не только правовыми нормами, исследование которых составляет главный предмет данной книги. В этой сфере, как отмечает профессор Стэнфордского университета Лоуренс Лессиг, действуют четыре вида социальных регуляторов: собственно правовые нормы (правовое регулирование), саморегулирование (прежде всего профессионально-этическое), конкурентное воздействие (законы рыночной экономики) и техническое регламентирование (программный код, компьютерная программа)[21].
Помимо перечисленных выше в данной сфере действуют и другие виды социальных норм, в частности политические и корпоративные. А. Б. Венгеров и Н. С. Барабашева относят к социальным регуляторам также ценностный, директивный и информационный[22].
Особого внимания заслуживают нормы профессиональной этики и стандарты профессионального поведения в сфере массовых коммуникаций. Они вырабатываются, как правило, неправительственными организациями, объединяющими людей, работающих в данной сфере. Софийская декларация ЮНЕСКО (1997) отводит этим нормам важнейшую роль: «Профессионально правильные методы журналистской работы являются наиболее эффективной гарантией от правительственных ограничений и давления со стороны особо заинтересованных групп. Любые попытки установления норм и руководящих принципов должны исходить от самих журналистов»[23]. Тем самым ЮНЕСКО предлагает разграничить сферы государственного регулирования и профессионального саморегулирования медиа.
Такое отношение к профессионально-этическим нормам нашло отражение и в некоторых актах высших судов РФ. Так, согласно правовой позиции КС РФ, организации, осуществляющие производство и выпуск СМИ, должны действовать «на основе редакционной независимости и вырабатываемых журналистским сообществом норм саморегуляции, т. е. правил профессии и этических принципов»[24]. В свою очередь, в п. 20 постановления Пленума ВС РФ 2010 г. указано, что в случае возникновения спора, связанного с освещением деятельности судов в СМИ, «не исключается возможность обращения за его разрешением в Общественную коллегию по жалобам на прессу, которая в силу пункта 4.1 ее Устава, принятого 14 июля 2005 г., рассматривает информационные споры, прежде всего нравственно-этического характера, возникающие в сфере массовой информации, в том числе дела о нарушении принципов и норм профессиональной журналистской этики».
В то же время нужно иметь в виду, что нормы этики, в том числе профессиональной, не представляют собой нечто неизменное и единообразное во все времена и во всех странах. Каждая эпоха и каждый народ устанавливают собственные стандарты свободы, гуманизма, справедливости, хотя и с высоким уровнем инвариантности к общечеловеческим ценностям[25].
Источником политических норм могут считаться, например, ежегодные послания Президента РФ Федеральному собранию, а также утвержденные главой государства доктрины, концепции и т. д. Так, Доктрина информационной безопасности 2016, равно как и Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденная приказом главы государства от 10.10.2019 № 490, должны быть отнесены к источникам скорее политических, чем правовых норм. Ни Доктрина, ни Стратегия не могут рассматриваться как нормативные правовые акты, поскольку они не содержат правовых норм. Однако, согласно п. 3 ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (ред. от 17.02.2023), все они считаются документами стратегического планирования и как таковые включаются в Федеральный государственный реестр документов стратегического планирования. Более того, закон предусматривает мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования. Свое регулятивное воздействие политические нормы осуществляют путем определения целей и постановки задач, формирования стратегии и тактики их решения, через политические мобилизации, государственные программы и проекты. Действенность этих норм предопределяется не столько авторитетом их источника, сколько их соответствием реальным потребностям общества.
Еще один вид социальных регуляторов – корпоративные нормы, т. е. правила поведения, закрепленные в актах различных организаций, корпораций, структур гражданского общества. Среди корпоративных норм выделяются локальные нормы, содержащиеся во внутренних документах, например в редакционных уставах или локальных кодексах журналистской этики. Очевидно, что такие нормы наиболее целесообразны при регулировании общественных отношений, не подвергшихся политической или правовой регуляции. Нельзя, однако, переоценивать их значение, поскольку их императивность распространяется только на сотрудников конкретной редакции, телерадиокомпании и т. п. Но в отношении данного круга лиц эти нормы могут иметь очень высокий уровень обязательности, особенно если они подкреплены соответствующими условиями трудовых контрактов.
Определенную роль в нормативном регулировании функционирования массовых коммуникаций играют традиции, обычаи, обыкновения, которые предлагается определять как политическую память – ретроспективную составляющую политического сознания. Следует различать политическую память гражданского общества и политическую память государственного аппарата. Так, включение в редакционные уставы многих муниципальных газет положения о назначении главного редактора тем или иным органом местного самоуправления порождено именно политической памятью аппарата. Тот факт, что подобный вопрос всегда рассматривался на организационных сессиях местных советов, имел решающее значение для дальнейшего воспроизводства данной практики и превращения ее в политическую традицию.
Традиции, зафиксированные политической памятью аппарата, как правило, носят контрпродуктивный характер, поскольку всегда ориентируют на воспроизведение прошлых управленческих решений, тиражируют формализм, подменяют собой социальное творчество. Особенно вредны такие традиции в сфере медиа, поскольку в них аккумулированы партийно-советские представления о «средствах массовой информации и пропаганды» как о «коллективном пропагандисте, агитаторе и организаторе».
Совершенно иной природы традиции, порожденные социальным опытом и политической памятью гражданского общества. Как правило, они имеют под собой реальную почву, предопределены насущными потребностями граждан и их коллективов. Например, для многих граждан обращение в редакцию местной газеты за помощью в решении конкретных житейских проблем все еще представляется более естественным и эффективным, нежели обращение за судебной защитой.
Учитывая, что нормативное регулирование организации и функционирования массовых коммуникаций опирается на множество источников, можно попытаться смоделировать его в виде нормативного пространства – по аналогии с правовым и социальным пространствами, широко используемыми в качестве моделей в современной науке (для которой вообще несомненна самоценность геометрических абстракций многомерного пространства[26]). Такое нормативное многомерное пространство будет образовано осями координат, которые соответствуют отдельным видам социальных регуляторов в сфере медиа. Общественные отношения расположатся в нем таким образом, что их координаты относительно каждой оси будут выражать степень регуляции этих отношений различными видами социальных норм.
Описанное выше теоретическое построение позволяет обнаружить в сфере массовых коммуникаций явление нормативного плюрализма. Оно дает возможность заключить, в частности, что однородные общественные отношения совсем не обязательно должны регулироваться однородными социальными нормами. Принципиальное значение имеет вывод о том, что многие общественные отношения в данной сфере, как правило, являются объектом регулирования одновременно всех или нескольких видов социальных регуляторов, хотя и в разной степени. Нормы дополняют друг друга, уточняют характер велений, соединяются с другими нормами и в целом обеспечивают социальное регулирование.
В условиях согласованности, непротиворечивости и взаимной детерминированности норм подобный нормативный плюрализм обеспечивает оптимальное сочетание регулирования и саморегулирования в сфере массовых коммуникаций. Взаимодополняемость социальных норм создает ситуацию, когда пробел в одной (например, правовой) системе регулирования восполняется нормами, относящимися к другой (например, профессионально-этической) системе, для которой в максимальной степени характерно саморегулирование. Таким образом формируется нормативный плюрализм, гармоничность которого зависит от степени адекватности отражения объективных потребностей общества. Напротив, рассогласованность регулирования, когда, например, корпоративные нормы расходятся с профессионально-этическими, провоцирует нормативный нигилизм, порождая контрпродуктивные поведенческие стереотипы, не имеющие ничего общего с основополагающими правилами медиарегулирования, необходимыми в демократическом правовом государстве. Как отмечает В. Д. Зорькин, «оценка степени оптимальности сочетания юридической формы и реальности должна вытекать не из констатации безупречности форм, а из констатации крайнего несовершенства реальности, а также из необходимости применять нормы права в рамках той реальности, которую мы имеем и которая нередко активно сопротивляется этому правоприменению»[27].
Помимо согласованности социальных регуляторов принципиальное значение имеет их соответствие характеру регулируемых общественных отношений. Так, профессионально-этические нормы не могут эффективно регулировать, например, вопросы регистрации СМИ, однако могут – стандарты организации проверки достоверности собираемых журналистом сведений.
Исследуя явление нормативного плюрализма в сфере массовых коммуникаций, необходимо различать идеальную и фактическую инфраструктуру социального регулирования. «Первая – это такая модель основных организационно-нормативных форм социальных регуляторов, которая объективно обусловлена данным социальным строем и является оптимальной для обеспечения функционирования общественной системы в соответствии с ее объективными законами. Фактическая же инфраструктура представляет собой реальное положение организационно-нормативных форм социальных регуляторов, действующих в данном обществе и в данное время, их реально существующую расстановку, которая, выражая ее идеальную модель, в то же время исторически находилась и находится под влиянием целого ряда разнообразных условий, обстоятельств, причин, в том числе и таких, которые относятся к субъективной стороне жизни общества, к сложившимся традициям, науке и даже личностным особенностям отдельных людей»[28]. Это нашло свое отражение и в построении данной книги: здесь главы и параграфы (если на них делится глава) имеют трехчастную структуру, в которой первая часть посвящена доктрине (идеальная модель), вторая и третья – соответственно законодательству и правоприменению (фактическая инфраструктура социального регулирования).



