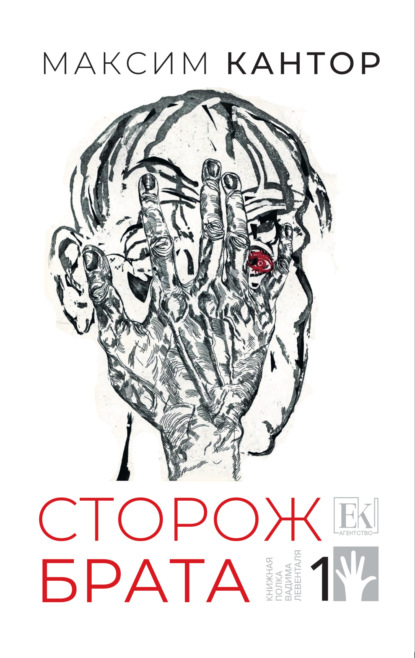
Полная версия:
Сторож брата. Том 1
Паша Пешков дивился, каким образом должность лаборантки позволяет летать в командировки то в Лондон, то в Брюссель, то в Париж. По всей видимости, его покровительница работник столь ценный, что в каждой из столиц ждут советов этой дамы, умудренной опытом.
Наталия возвращалась из походов, нагруженная дарами: одеждой, винами и сырами – меню Паши в такие дни было изысканным. Не такова была Наталия, чтобы наслаждаться бордо в одиночестве и не пригласить компаньона.
Из последней командировки Наталия Мамонова вернулась расстроенной и сейчас делилась драмой с американской подругой, посвященной в хитросплетение любовных интриг; интриги были изложены в редакции, подчеркивающей долготерпение женщин и бессердечие мужчин.
Подруга школьных лет, Софи, жила в Милуоки, штат Висконсин, со среднестатистическим американским мужем в среднестатистическом домике – «мещанка с мужем-мещанином», как аттестовала ее Наталия в разговорах с Рихтером. Семейное бытие подруги могло вызывать легкую зависть, хотя, думая о перспективах в Европе, с ее музеями, университетами и соборами, Наталия смеялась над провинциальной Америкой. Описывала подруге кружевной собор в Брюсселе, Лувр и Трафальгарскую площадь, ресторанчики Парижа с аккордеонистами (ах, помнишь ли «Праздник, который всегда с тобой»? ну да, тот самый кабачок на рю кардинал Лемуан), ужин на канале в Брюгге (приходится кутаться в шаль от ветра, ну да, официант приносит), а незадачливая Софи, которая по воскресеньям жарила сосиски на заднем дворе мещанского домика, глядела на подругу с восхищением.
А отели? Тот, кто жил в четырехзвездочных отелях на берегу Сены, знает, каков на вкус утренний кофе, когда пьешь первую чашку, глядя на сизые крыши Парижа, на красные трубы и пикассовских голубей. А венские пирожные? А стакан луарского с устрицами? Только нувориши запивают устрицы шабли. Возьмите «Пьюи Фюме», если что-то понимаете в жизни. Не спешите. Проглотите устрицу, можно даже вовсе без лимона, дайте острому морскому вкусу охватить ваше нёбо и запивайте холодным белым. А крыши города под вами текут и переливаются в мареве лепестков парижской серой розы. Впрочем, не в кулинарии дело; это так, пустяк. Пройти с любимым человеком вдоль лавок букинистов по набережной Сены или постоять у полотен Брейгеля в Венском музее – такое рестораном не заменишь. Надо оценить интеллект Европы, дух этой сказочной планеты.
Софи, сидя на диванчике на скромной московской кухне, слушала волшебные рассказы, обрамлявшие повествования о любовном треугольнике, так причудливо сложившемся в жизни ее подруги.
В присутствии Паши Пешкова говорили практически не стесняясь, избегали лишь разговоров о постели, а сам тот факт, что в Наталию влюблено столько разных мужчин, мог лишь льстить безработному всклокоченному человеку.
– И он требует, чтобы я покаялась, – с негодованием описывала Наталия сцену разрыва с Рихтером. – Обличает меня и оскорбляет, словно у него есть право судить.
– Не может быть, – ахнула американка. – Оскорбляет?
– Не стану повторять грязных эпитетов, хотя следовало бы сообщить в полицию.
– Следует сообщить полиции, не откладывая!
– Я выше этого. Но упреки грязные. Видимо, надо, чтобы я свела счеты с жизнью – от стыда.
– А вот это мне уже совсем не нравится, – воскликнула Софи, всегда и всецело принимавшая логику подруги и отстаивающая ее позиции. – Совсем не нравится. Господин Рихтер, похоже, намерен довести тебя до самоубийства. Что за претензии? Чтобы ты покаялась? Не будем доставлять ему такого удовольствия! Трагедию всегда легко превратить в фарс, а этот твой Рихтер только этим и способен заниматься.
И Наталия, слушая эту речь, соглашалась с тем, что, в сущности, с ней произошла трагедия: два любовника обнаружили существование друг друга – и было бы поистине фарсом извиняться перед одним из них. Паша же Пешков недоумевал, почему речь вдруг зашла о трагедии и за что же Наталии, за которой ухаживали (что отнюдь не удивительно) два кавалера, следует извиняться. Имя Рихтер он слышал неоднократно от своей компаньонки, юмористически описывавшей пожилого ученого, носящего за ней зонт. К чему мог бы придраться этот оксфордский зануда? Ах, он приревновал к тому, что имеется второй ухажер – художник. Ну понятно: раз появился знаменитый акварелист, то, разумеется, кабинетный сухарь почувствовал, что его внимание не так нужно. Но отчего же Наталию расстраивают мнения этих чужих людей? Впрочем, женщины – существа романтические, сложные, их струны порой издают неожиданные звуки, – и Паша, накинув пальто, выходил на балкон курить, а там прикладывался к бутылке, спрятанной в цветочном горшке.
– Я ему сказала так, – уточнила Наталия, пользуясь отсутствием Паши в комнате, – я истратила на тебя восемь лет жизни, – срок был преувеличен вдвое, но Софи, знавшая об этом так же хорошо, как сама Наталия, подтвердила кивком головы огромность жертвы. – Восемь лет страданий!
– Есть люди, которым незнакомо чувство любви, – заметила американская подруга.
– Полюбила моральное ничтожество и расплачиваюсь. Пусть умрет со своей косорылой женой.
Наталия иногда позволяла себе резкое словцо, всегда вызывавшее искренний восторг подруги. В Америке, измученной политкорректностью, так страстно не говорят.
– Он заслужил! Наплачется. Выброси его из головы. А что Клапан?
– С Феликсом мы давно уже просто друзья. Разговоры только об искусстве.
– Ах, как же тебе надо отвлечься! Не слетать ли тебе пока с Клапаном в Антверпен? Помнишь, он тебя приглашал?
– В атмосфере склоки и скандала Клапан устранился. Ты же знаешь, он слишком прямой человек и не любит лишних драм. Разумеется, я справлюсь. Завтра непременно иду в музей на выставку современного искусства. А сейчас придут гости, люди интересные.
Софи смотрела на Наталию с восхищением, с каким глядят дети со школьного двора, где гоняют резиновый мяч, на знаменитых футболистов. К восхищению примешивалась и тоска. Софи уже через неделю летела назад, домой, в мелкий коттеджный поселок на задах Милуоки в однообразную жизнь с квакерской церковью и супермаркетом. Летела из Москвы, где все бурлит, где рестораны не закрываются по ночам, где (не уступая в своем кипении Нью-Йорку и Лондону) из пирамиды страстей высверкивает то одна, то другая – и тут же на смену ей спешит появиться новая, не менее захватывающая. А дома ждал скучнейший муж Гамильтон, гладко выбритый, с редкими серыми волосами на скучной небольшой голове, ждала старая собака и унылый взрослый сын, который работает в банке.
– Только прилетела и сразу принимаешь гостей? – но это и не удивительно, подумала Софи. Жизнь Наталии пронзительна и стремительна.
Ждали гостя, коллекционера из Нью-Йорка, с коим Наталия Мамонова познакомилась в Брюсселе, на званом обеде, куда ее привел год назад Марк Рихтер. Для Софи, жительницы пригорода (даже до Милуоки добирались они с мужем нечасто), встреча со знаменитостью из Большого яблока была вещью неслыханной. Нью-Йорк – шутка ли! В Нью-Йорке сегодня забывают то, что вы узнаете только завтра! Так что, если вы завтра соберетесь в Нью-Йорк, можете даже и не ехать, вас там еще вчера напрочь забыли, если когда и приглашали: прогресс несется вскачь, и вы безнадежно отстали. Но здесь, в Москве, да еще у Наталии – всякое случается: гость из Нью-Йорка – пожалуйста, легко. Нью-йоркский гость был родом из России, но давно стал совершенным американцем; торговля недвижимостью закалила характер; охота за русским авангардом превратила в интеллектуала. Фишманом восторгалась мыслящая Москва, он был украшением любого приема, вдобавок был женат на чистокровной американке, представляющей организацию «Эмнести Интернешнл». Борцы за права узников совести, инакомыслящие, прогрессивные искусствоведы и банкиры – многие искали общества американской пары.
Было и еще одно качество, незаурядное в глазах Наталии: сотрудница «Эмнести Интернешнл» была десятью годами старше супруга, коему перевалило за семьдесят.
Не то чтобы Наталия имела готовый план действий, но, как всякий полководец, даже не собирающийся вступить в бой, машинально оценивала диспозицию и просматривала возможности маневра.
Оделась в синее платье с декольте, открывавшее крупную грудь с родимыми пятнами, из коих некоторые были выставлены напоказ. Софи оценила платье и вызовы, содержавшиеся в наряде.
Порекомендовала накинуть газовый шарф, но хозяйка дома лишь презрительно улыбнулась.
– Скрывать нам нечего.
С Фишманом списались давно, и день был выбран заранее. На том самом брюссельском обеде Фишман вручил Наталии визитную карточку, уточнил, что собирается вместе с супругой в Москву, и радушная Наталия, всегда склонная отработать любую мелочь, пригласила пару на чай. В ходе дальнейшей переписки выбрали время.
Фишман был крепок, с жестким, обветренным в финансовых штормах лицом. Супруга его, полная дама с седым пучком и в шерстяной кофте, сошла бы за российскую пенсионерку, если бы не гигантский бриллиант на пальце; Софи взглядом указала Наталии на перстень, та кивнула.
Фишман вошел в тесное помещение московской однокомнатной квартиры с тем тактом, который присущ воспитанным богачам, не забывшим бедное детство. Не стал искать, где здесь вторая комната – понятно было, что комната одна, не спросил, куда выходят окна, не стал интересоваться площадью. Отметил изысканный стиль. Похвально отозвался о цвете обоев, оценил качество библиотеки. «Вижу, увлекаетесь Средневековьем?» Поинтересовался, чьи полотна украшают стены комнаты.
– Кажется, это не авангард? – спросил он мягко, давая понять, что хотя сам он коллекционирует Малевича и Кандинского, но с пониманием относится к ординарным поделкам российского рынка.
– О, конечно же, нет, – всплеснула руками Наталия, – откуда у меня авангард. Это работы одного британского мастера. Феликс Клапан – вам встречалось это имя?
– Ваш портрет?
– Вы угадали. Господин Клапан выполнил ряд моих портретов.
– Он Наталию вообще часто рисует, – подал голос Паша Пешков.
– Я его понимаю, – Фишман с одобрением оглядел хозяйку дома, а та, зардевшись, закрыла лицо руками.
– Мы с Наталией, – пояснил Фишман супруге, также занявшей один из стульев, – познакомились в Брюсселе, если не ошибаюсь.
– Наталия вообще половину года проводит в Европе, – вставил Паша Пешков.
– Да, так получается, что много командировок, – сказала Наталия, сделав тот традиционный жест рукой, которым дают понять: и рад бы иметь менее суетливую жизнь, но уж так случилось. – Эта квартира, по сути, для меня некий пункт отдыха на время коротких визитов в Москву. Живу, как многие, в самолете. То Лондон, то Вена.
– Будем считать, – сказал Фишман, заинтересовавшись чуть более, – что мне повезло, когда мы встретились в Брюсселе. Вы могли бы оказаться и в Вене, и в Париже…
– Да куда она только не ездит, – сказал Паша Пешков.
– Вы были на обеде с Рихтером, оксфордским профессором, верно?
– Мой старинный друг.
– Весьма симпатичный джентльмен. Он как раз занимается Средними веками? – взгляд на книги.
– Ну, допустим, меня интересует несколько иной период. Но, в принципе, да, у нас есть темы для разговоров.
– Кажется, он женат? – рассеянно спросил Фишман. – Помню, на том обеде сложилось так, что его спутницей были вы, сначала я даже принял вас за пару…
Наталия Мамонова подняла бровь, всем своим обликом показывая, что предположение дикое, однако, разумеется, пожелай она того (что допустить невозможно), конечно же, Марк Рихтер был бы ее спутником на всю жизнь.
– Я быстро понял ошибку, – сообщил коллекционер, – когда Марк сказал, что жена просто не могла вместе с ним приехать в Брюссель. Кажется, жена тоже преподает в Оксфорде? Вы с ней знакомы?
Мамонова подавила улыбку. То есть все присутствующие поняли, что она еле сдерживается, чтобы не засмеяться, но не позволила себе даже улыбнуться: так, тень улыбки скользнула по губам. И все оценили воспитанность хозяйки.
– Возможно, я и заблуждаюсь, – поспешил отозвать свои предположения коллекционер, – скорее всего, меня ввели в заблуждение слова Марка. Он упомянул о диссертации, связанной с тематикой картин, которые я собираю… Но, скорее всего, я что-то путаю…
И снова мимолетная улыбка – сдержанная ирония, не желавшая проявиться в правдивых словах, каких заслуживала злосчастная супруга Марка Рихтера – скользнула по губам Наталии Мамоновой. Она даже слегка отвернулась, так что всем стали видны пикантные завитушки на шее и возле уха с жемчужной сережкой – дабы никто не заметил, как ее забавляют мнимые достижения жены Рихтера.
– Во всяком случае, я, – Наталия сделала ударение на местоимении, – я лично не имею сведений об этой диссертации.
Всем стало понятно, что кто-кто, а уж Наталия Мамонова непременно узнала бы, если бы подобная диссертация имела место.
– Рихтер, помнится, говорил о пятнадцатом веке Бургундии, – Фишман всегда помнил все; качество профессиональное – и в банковских негоциях, и в торговле авангардом.
Пригубил вино, покачал бокал в ладони, пригубил снова, одобрительно кивнул.
– Да, речь шла о Бургундии. Вы, Наталия, также этим временем увлекаетесь?
Наталия в свою очередь подняла бокал, приглашая гостей к совместному тосту.
– Рада вас видеть у себя и простите скромную обстановку. В следующий раз постараюсь организовать встречу в Париже.
Теперь Фишман оттаял окончательно.
– И будьте уверены, мы эту встречу не пропустим. Не так ли, дорогая? – Супруга коллекционера, казалось, дремала и не отреагировала. – Итак, вы поклонница искусства акварели и знаток живописи Бургундии?
Если и была ирония в этих словах, Наталия предпочла ее не заметить.
– Я интересуюсь искусством и, так уж сложилось, регулярно посещаю музеи Брюсселя, Брюгге и Антверпена. Пятнадцатый век фламандской живописи мне знаком, – мягко сказала она, ничем не погрешив против истины. И действительно, в свои поездки по музеям Марк Рихтер часто брал ее и рассказывал про Великое герцогство Бургундское и придворных живописцев Филиппа Доброго.
– Наташа, – заметил Паша Пешков, гордящийся своей компаньонкой, – постоянно ездит в командировки. Ну и по музеям ходит. Вот сейчас как раз из Оксфорда приехала.
Сам Паша никуда не выезжал, но, поддерживая авторитет Наталии, ощущал и собственную осведомленность.
– Мы тут, знаете ли, не оторваны от Европы!
– Вы профессионально занимаетесь историей искусств? Вас приглашают на симпозиумы? – спросил Фишман, и с этой минуты весь его интерес сосредоточился на Наталии Мамоновой, а про собственную жену он уже не вспоминал.
– О нет, не могу про себя этого сказать. Я, если хотите, классическая скучная медичка, занимаюсь исключительно медициной, – скромно заметила Мамонова, которая действительно работала лаборанткой в клинике, – но оставшееся время отдаю истории искусств. Прошу вас, попробуйте мой пирог.
Не так часто встречаем мы в жизни особ столь разносторонних, сочетающих познания в медицине, истории искусств, кулинарное искусство с женским очарованием и тактом. Гость, приехавший из Большого яблока, был потрясен.
– Московская интеллигенция, – сказал он наконец, – это особая порода людей. От некоторых людей в Америке я слышал, что сегодня интеллигенция уже не та. Однако слушаю вас и вижу, что злые языки неправы.
– Московская интеллигенция, – веско сказала Наталия, – субстанция неистребимая. Не знаю, относится ли этот высокий титул ко мне…
– К кому же, как не к вам! – ахнул коллекционер, любуясь грудью Наталии и ее соблазнительной родинкой, выступавшей из декольте, – кто, как не вы, достоин этого звания! Вы знаете фламандскую живопись, историю Средневековья, медицину… То, что вы сегодня рассказали про пятнадцатый век…
Поскольку Наталия решительно ничего не сказала ни о живописи, ни о пятнадцатом веке и предпочла бы не углубляться в эти предметы, – она легким жестом отмела похвалы как незаслуженные.
– Оставим это, право, – сказала она, впервые взглянув на коллекционера прямо, и тот почувствовал пламень карих глаз. – Оставим это, поскольку нашим друзьям такой разговор может быть скучен. – И она выразительно посмотрела в сторону старой супруги коллекционера, мирно дремавшей на другом конце стола.
– Но мне это в самом деле важно! – Фишман уже не мог отвести взгляда от глаз Наталии, и та почувствовала, что отныне может делать с пожилым жестоким финансистом все что угодно.
– Поверьте, – сказала она с той преданной искренностью, которая появляется у людей, говорящих с человеком, перед достоинствами которого преклоняются, – поверьте, ничего на свете я так не желала бы, как учиться у вас. Вы тот человек, который знает культуру практически, понимает глубже, чем мы, кабинетные работники.
– Вы посещали лекции Марка Рихтера? – спросил вежливый коллекционер.
– Две или три, – склонив голову, припоминая подробности, Наталия старалась быть максимально точной, не брала на себя лишнего. – Возможно, три. Мне этого хватило, – добавила она с улыбкой.
– Не показалось интересным?
– Как вам сказать… Он, скорее всего, талантливый ученый. Или мог бы стать таковым.
– И что же?
– Видите ли, у меня сложилось впечатление, что Марк Рихтер слабый, закомплексованный человек. Возможно, неудачный брак. Человеческая слабость, ограниченность в быту часто отражается на научных трудах.
– Досадно, – сказал коллекционер, бросая косой взгляд на собственную жену. – Мы можем лишь сожалеть… Ведь Марк Рихтер – ученый с именем? Так его мне рекомендовали… И он находится под влиянием… – воспитанный гражданин Бостона старался мягко покинуть неприятную тему. Застольная беседа обязана течь гладко.
– Она… Супруга эта… – решила вступить в беседу Софи, не удержалась и прыснула со смеху: термин «косорылая» не давал ей покоя, – она… – Наталия укоризненно поглядела на подругу, и та закончила фразу простым, но веским утверждением. – Это исключительно заурядное существо.
Супруга финансиста производила впечатление женщины, постоянно пребывавшей в полусне; однако, как выяснилось, слышала все превосходно. Фамилию Рихтер выделила из речевого потока. Поинтересовалась значительно:
– Не связан ли господин Марк Рихтер с тем Романом Рихтером, недавно арестованным узником совести?
Тема «узников совести» была не чужда Наталии Мамоновой – но в оранжировке данной темы имелись нюансы. Так, Феликс Клапан, украинский активист, считал, что все зло на планете от российского президента и госбезопасности, и задорно клеймил любые проявления российского тоталитаризма. В любых разговорах он возвращался к личности Путина, напавшего на его родное свободное государство, предрекал российскому президенту скорый правый суд. Во время их отельных поездок, которые Клапан именовал «эпикурейством», Наталия принимала вместе с Клапаном участие в словесных расправах над путинской сворой, и российским клевретам доставалось на орехи. Однако Марк Рихтер, в ту пору, когда она склонна была к нему прислушиваться, не находил Путина персональным виновником мировых катаклизмов, уверял, что перемены в мире связаны с общей исторической мутацией; как-то так он обычно выражался. И, находясь рядом с ним, Наталия отдавала дань такому взвешенному подходу. Пару раз она даже попыталась изложить эту версию событий Клапану, когда они лежали в постели. Акварелист вскакивал с ложа и, как есть нагой, принимал угрожающие позы, говоря, что любой релятивизм постыден. И Наталия была вынуждена с ним соглашаться – ну, что хорошего может быть в релятивизме? Что касается до Паши Пешкова, тот вообще презирал любое правозащитное движение, служащее, по его мнению, выгоде международного империализма. Представление о социальном устройстве мира у Паши было таково: он полагал, что в разрушении советского социализма, дававшего возможность населению жить безбедно и в равенстве, были заинтересованы финансовые корпорации. Усилиями так называемых правозащитников, коими дирижировали агенты влияния капиталистического Запада, СССР ликвидирован; на его месте построили олигархическую империю. Теперь президент хочет навести порядок среди олигархов, но правозащитники ему мешают митингами. Если по иным вопросам Паша Пешков твердого мнения не имел и в беседах с Наталией покорно слушал о ее странствиях по миру, поглощая съестное, то едва речь заходила об оппозиции, он менялся в лице и кричал:
– А виллы на какие шиши они понастроили? На пенсию моей матери, может быть? Путин их хотя бы сажает, воров проклятых! Да и на Украине такая же мешпуха еврейская!
Павел Пешков не был в буквальном смысле слова антисемитом, но наличие еврейских имен в бизнесе он отмечал и едко комментировал. И Наталия с природной деликатностью и, как обычно, весело сводила Пашины эскапады к еврейским анекдотам или к рассказам о европейских музеях.
Что до Софи, жены программиста из Висконсина, то она соглашалась с мужем в том, что международные вопросы должны решаться в рамках принятого правового поля.
Сотрудница «Эмнести Интернешнл» окинула присутствующих внимательным взглядом, желая удостовериться, находится ли среди людей адекватных, затем сказала:
– Дело Романа Рихтера попало в орбиту нашего внимания совсем недавно. Применили обычный прием. Якобы замешан в финансовую аферу. Всем ясно, что обвинение в финансовых махинациях – ширма для подавления инакомыслия.
– Как будто мало в России ворья, – с чувством сказал Паша Пешков, – что тут еще выдумывать? Бери любого – вором окажется. Вот носились семь лет с Украиной, а там одно ворье. Пожалели их, героями считают… майдан, понимаете ли!
Тщетно Наталия посылала сигналы своему компаньону; Паша ее знаки игнорировал.
– Вы в курсе того, что сейчас происходит в Украине? – спросила на ломаном русском представительница «Эмнести Интернешнл», не забыв, однако, поставить предлог «в» вместо привычного русскому уху предлога «на».
Паша Пешков немедленно отреагировал. Назидательности в тоне правозащитника он не уловил.
– На Украине, – одернул он активистку, – а не «в Украине»! Говорите по-русски, если в Россию приехали! На Украине! И кой черт знает, что там у них на Украине, – добавил он, пережевывая дорогой французский сыр. – Совсем обалдели на вашей Украине.
До сих пор на Пашу Пешкова и на его реплики внимания не обращали, то был один из предметов интерьера, и не слишком удачный. Ни Диана Фишман, ни ее супруг Грегори (наречен был Григорием) ни разу не взглянули в сторону странного человека с клочковатой шевелюрой. Но после вопиющей тирады в защиту российского тоталитаризма гости посмотрели в упор на злосчастного компаньона; причем Грегори Фишман, разглядев как следует несимпатичного Пашу, повернул вопрощающий взгляд к Наталии: ну как такое можно?
Диана Фишман, видимо, хотела нечто сказать, но поджала губы – в таком обществе и говорить не пристало.
– Если завтра Россия начнет войну с Украиной, – воскликнул Фишман, задав вопрос вместо своей супруги, – что вы будете делать?
– Я? – изумился Паша Пешков. – А что я должен делать? Ну, если начнет, так, значит, начнет. Я-то здесь при чем?
– Вы гражданин преступной страны. Вы разделяете ее вину? Что вы будете делать в случае агрессии?
– Да нет у меня никакой вины! – вспылил Паша. – Что буду делать? Спать лягу. А утром позавтракаю.
Диана Фишман, женщина решительная, отодвинула от себя нетронутую рюмку и сухо заметила, что им, пожалуй, пора.
– А на что обиделись? – не унимался Паша. – Как мне прикажете реагировать? Ехать на Донбасс и стрелять? В кого стрелять, интересно? У меня там врагов нет. И друзей нет. И ни в кого стрелять не буду. Дела никакого мне до вашей Украины нет.
– Страна желает быть свободной, – пояснил Фишман.
– Мне-то что? Пусть будет. Или не будет. Мне до лампочки.
– Вам безразлично, будет ли Украина свободной?
– Совершенно безразлично.
Склонная доводить все и всегда до конца, никогда не идти на компромиссы (благодаря этим качествам она и составила себе репутацию борца), Диана Фишман, тщательно взвешивая слова и отчетливо выговаривая звуки плохо знакомого языка, проговорила:
– Существуют вещи непростительные. К подобным вещам я отношу поддержку агрессора, отрицание Холокоста, угнетение малых народов.
Пашу Пешкова прежде не допускали до бесед с иностранцами и вообще демонстрировали общественности редко. Он впервые сидел за столом с представителями крупного капитала. Возбужденный непривычным вниманием к своей персоне, утратил контроль над эмоциями.
– Да что ж это нам все подряд советуют? Это делай, то не делай! Слетелись в Россию, как будто вас кто звал! Добро народное делить приехали.
– Павел, – тихо и твердо сказала Наталия. Но компаньон сползал в темную бездну патриотизма.
– Россия вас и не приглашала. На богатое приданое съехались? Не про вас!
Наталия почувствовала, что еще минута – да что там минута! еще миг – и приобретенное знакомство рассыплется в прах; больше ей Фишмана не увидеть.



