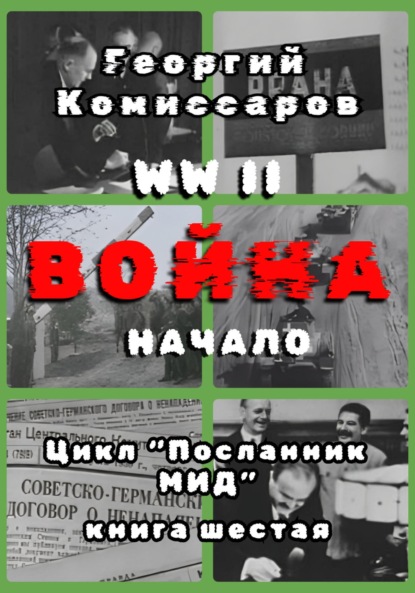
Полная версия:
WW II Война, начало
Сталин снова остановился и спросил:
– И что ви предлагаете?
Литвинов пожал плечами и стал рассуждать:
– Можно было бы, товарищ Сталин, вообще свернуть полпредскую сеть. Не раз уже обсуждался, например, вопрос об объединении трех скандинавских полпредств в одном… у Коллонтай.
– Можно было бы также объединить финское полпредство с эстонским, латвийское с литовским, чехословацкое с венгерским, румынское с греческим, но это, товарищ Сталин даст не очень большую экономию, ибо придётся иметь во всех столицах, по крайней мере, консульства.
– Да и политически вряд ли это удобно, ибо усилились бы толки о нашей самоизоляции и тому подобное.
Сталин снова остановился и просто пристально посмотрел на Литвинова.
Тот вздохнул и сказал:
Товарищ Сталин, конкретно я могу пока сделать лишь следующие предложения:
– Первое: Товарища Александровского перевести в Бухарест, ибо Румыния для
нас теперь имеет больше значения, чем фашизированная и потерявшая всякую самостоятельность Чехословакия.
– Второе: В Варшаву назначить товарища Богомолова, о котором я писал ещё 29 октября прошлого года. Из всех присланных ЦК кандидатов в полпреды товарищ Богомолов производит наилучшее впечатление. Если почему-либо назначение товарища Богомолова невозможно, то предлагаю назначить в Варшаву товарища Александровского.
– Третье: Товарища Марченко назначить полпредом в Испании. Негрин болезненно воспринимает оставление нами Испании без полпреда. Фактически товарищ Марченко и так там выполняет все функции полпреда и с работой справляется, отчего же не дать ему звание полпреда?, – спросил Литвинов.
Сталин ничего не ответил и продолжал неспешно ходить.
Наркоминдел продолжал:
– Четвёртое: Предлагаю, товарищ Сталин, назначить комиссию для изучения создавшегося в НКИД положения с кадрами и изыскания путей к изменению положения.
– В комиссию просил бы назначить одного из членов Политбюро, товарища Маленкова и меня, – добавил Литвинов в конце.
Сталин остановился и сказал:
– Будем считать это моим поручением. Оформите всё у Поскрёбышева. И принимайтесь со всей энергией.
Литвинов всё записал и побежал исполнять.
А ещё через неделю комиссия одобрила первых кандидатов. Так в советскую дипломатию пришли Андрей Громыко и Валериан Зорин.
Глава 3
В середине февраля 1939 года я сопровождал Гитлера, когда тот посещал дом Бисмарка в Фридрихсруэ, а на следующий день его пригласили почтить своим присутствием спуск на воду линейного корабля «Бисмарк» в Гамбурге.
Я хотел извлечь пользу из поездки, внушив Гитлеру свои сомнения в отношении его планов насчет Праги, о которых уже все говорили открыто. Однако мне удалось поговорить об этом только с Риббентропом. Результаты беседы оказались неудовлетворительными, поскольку Риббентроп обладал привычкой с умным видом выслушивать собеседника, если не был уверен в намерениях Гитлера.
Правда, я смог в поезде провести длительную беседу с адмиралом Редером главнокомандующий ВМФ Германии, которому меня представил Кейтель.
От него я узнал, что тот только что объяснил Гитлеру, что морской флот не будет готов сражаться против Англии ранее 1942 года.
Конечно, было заметно, что Редер вовсе не хотел войны.
Занимавший пост главнокомандующего сухопутными войсками фон Браухич показался мне менее ответственным и не прислушивался к точке зрения осторожных генералов, – похоже, его волновали чисто военные идеи.
Застольные разговоры Гитлера и в его тесном кругу были по тематике своей … к моему большому огорчению… поразительно ограниченными, и не выходили за пределы предвзято – банальных речей.
Это уже и ранее … подобным беседам в Оберзальцберге… придавало довольно утомительный характер.
Отличались они тут, быть может, только большей жесткостью формулировок, но оставались все в том же репертуаре, который Гитлер ни расширял, ни углублял и почти не обогащал какими-либо новыми точками зрения, идеями. Я не могу сказать, что, находил бы его высказывания яркими, хотя он и завораживал многих своей личностью.
Скорее, они меня протрезвляли, потому что я ожидал взглядов и суждений более высокого уровня.
Говоря о себе, он часто подчеркивал, что его внутренний политический, художнический и военный мир образуют целостность, которая у него, вплоть до мельчайших деталей, полностью сложилась между двадцатыми и тридцатыми годами.
Это было, по его словам, самое плодотворное время его жизни: все, что он теперь планирует и творит – всего лишь осуществление его тогдашних идей.
Большое место в застольных разговорах занимали воспоминания о мировой войне. Очень многие из присутствовавших прошли через неё.
Гитлер какое-то время находился в траншеях напротив англичан, которые внушили ему своей смелостью и беззаветностью определенное уважение, хотя он и подшучивал над некоторыми их особенностями.
Так он с иронией рассказывал, что ко времени пятичасового чая они прекращали артиллерийский огонь и что в это время он мог всегда без риска выполнить свои обязанности связного.
Поминая французов, на этих застольях, он никогда не высказывался в реваншистском духе: он не хотел повторения войны 1914 года.
– Нет никакого смысла, – рассуждал он, – начинать новую войну из-за незначительной полоски территории Эльзас-Лотарингии. Тем более, что эльзасцы из-за длительного колебания то в одну, то в другую сторону, не представляют ценности ни для одной, ни для другой стороны. Надо их оставить в покое там, где они сейчас находятся.
Естественно, что при всех рассуждениях Гитлер исходил из того, что Германия должна расширяться на Восток.
Храбрость французских солдат также произвела на него впечатление, вот только офицерский корпус был, по его мнению, дрябловат: «Под командой немецких офицеров французы были бы выдающейся армией».
Довольно сомнительный, с точки зрения расистских принципов, союз с Японией он не то чтобы отвергал, но в отдаленной исторической перспективе у него были большие сомнения на этот счет.
И сколько бы раз он ни касался этой темы, в его голосе всегда можно было расслышать оттенок сожаления, что он пошел на союз с так называемой желтой расой. Но, – тут же добавлял он, – у него нет оснований особенно упрекать себя за это: ведь и англичане блокировались с Японией в мировую войну против держав Тройственного союза. Но Гитлер рассматривал Японию как союзника в ранге мировой державы, относительно же Италии у него такой уверенности не было.
А американцы в войне 1914-1918 годов не так чтобы себя показали, да и значительных жертв они не понесли. Настоящего испытания они, конечно, не выдержат, их достоинства как боевой силы сомнительны. Да, и вообще американский народ как единое не существует, это же всего-навсего толпа эмигрантов разных народов и рас.
У Гитлера адъютантом был Фриц Видеман – в прошлом адъютант командира полка и начальник пешего связного Гитлера.
Так тот пытался возражать и настаивал на развитии диалога с Америкой. Гитлер, раздосадованный его прекословием, что нарушало неписанные законы застолья, отправил его генконсулом в Сан-Франциско: «Пусть он там излечиться от своих заблуждений», – напутствовал Гитлер своего бывшего командира.
Эти застольные беседы велись людьми, не имевшими никакого международного опыта.
В своем большинстве они не покидали пределов Германии. И если кто-нибудь из них совершал увеселительную поездку в Италию, то за столом Гитлера это обсуждалось уже как целое событие и за этим господином закреплялась репутация человека с международным опытом.
Да и Гитлер совсем ведь не видел мир и не приобрел ни знаний о нём, ни почерпнул в нём новых идей.
К тому же партдеятели его окружения в основном не имели высшего образования.
Из пятидесяти рейхс- и гау- ляйтеров, – элиты имперского руководства, всего лишь десять имели законченное университетское образование, некоторые имели незаконченное высшее, а большая часть не двинулась дальше средней школы.
Почти никто из них не добился высоких результатов хоть в какой-нибудь области. Их всех отличала поразительная духовная лень.
Их образовательный уровень ни в коей мере не отвечал тому, чего следовало бы ожидать от высшего руководства во главе народа с традиционной высоким интеллектуальным уровнем.
Я так понял, что Гитлеру было приятнее иметь среди своих сотрудников и приближенных лиц одинакового с ним происхождения. Среди них он чувствовал себя комфортнее.
Ему неизменно доставляло удовольствие, если кто-нибудь из его сотрудников попадал впросак.
Мой приятель Ханке как-то заметил: «Вообще-то хорошо, когда у сотрудников есть какой-то изъянчик и они знают, что это начальству известно. Поэтому фюрер так редко и меняет своих сотрудников. Ему с ними легче работается. У каждого найдется какое-нибудь темное пятнышко, и это помогает держать их на поводке».
За «изъянчик» считались бытовая распущенность, отдаленные предки – евреи или непродолжительный партийный стаж.
Довольно часто Гитлер пускался в рассуждения, что экспортировать такие идеи как национал-социализм – ошибка. Следствием может быть только нежелательное усиление других наций и ослабление собственных национальных позиций. Его успокаивало, что в нацистских партиях других стран не видать было политиков его калибра.
– Они просто рабски подражают нам и перенимают наши методы – говаривал он, – но это ничего им не даст. В каждой стране следует исходить из её специфических обстоятельств и в соответствии с этим определять свои методы.
Политика была для Гитлера делом целесообразности.
Даже на свою основополагающую книгу «Майн кампф» он смотрел под этим же углом зрения, говоря, что во многих местах она уже не отвечает сегодняшнему дню, и ему вообще не следовало бы развертывать всю свою программу на столь ранней стадии.
После завоевания власти идеология начала заметно отходить на второй план. В основном только Геббельс и Борман вели борьбу против опошления партийной программы.
Они не ослабляли усилий по идеологической радикализации Гитлера.
Если судить по публичным выступлениям, к кругу твердых идеологов принадлежал и Лей, но он был мелковат, чтобы завоевать сколь-либо значительный авторитет.
Гиммлер же, напротив, шёл откровенно каким-то своим шарлатанским путем, сваливая в одну кучу верования древнегерманской прорассы, элитизм и убежденность в пользе потребления исключительно свежих натуральных продуктов, и всё это он начинал облекать в экзальтированные полурелигиозные формы.
Над этими его «исканиями» подшучивали прежде всего Гитлер и Геббельс, и надо признать, что Гиммлер сам как бы способствовал этому своей тщеславной тупостью.
Как-то японцы поднесли ему в дар самурайский меч, и он тут же открыл родственность германских и японских культов и с помощью ученых начал строить разные догадки, каким образом это можно объяснить в свете расового учения.
Одним из особенно волновавших Гитлера вопросов было, как на длительную перспективу обеспечить его Рейху достойную подрастающую смену.
Зародыш идеи подал Лей, которому Гитлер передал всю организацию системы воспитания.
Благодаря созданию «школ Адольфа Гитлера» для молодежи и «Орденских замков», которые бы поставляли руководящие кадры, предстояло вырастить компетентную и идеологически вышколенную элиту.
Вероятно, такой отбор сгодился бы только на кадровое наполнение партийно-бюрократического аппарата.
Для практической же жизни это пополнение, проведшее в изоляции молодые годы за высокими стенами, вряд ли было бы пригодно.
Примечательно, что высокопоставленные функционеры не направляли своих детей в такие школы. А Борман же – и это очень показательно – отправил одного из своих сыновей в одну из таких школ… в наказание.
Для активизации подзапущенной идеологической работы, по представлениям Бормана, была необходима война против церкви.
Он был движущей силой её обострения, и он не упускал для этого ни одного случая во время застолий. Я же подумал, что, как для советского агента, Борман ведёт правильную работу.
Здесь, в мужском обществе, Гитлер был грубее и откровеннее, чем в своем зальцбургском окружении.
«После того, как я разберусь со всеми другими вопросами, – иногда говаривал он, – я и с церковью рассчитаюсь. Ей небо покажется в овчинку».
Но Борману не терпелось. Он использовал малейший повод, чтобы чуть ещё продвинуться в своих намерениях.
Даже за обедом он нарушал неписанное правило не касаться тем, которые могли бы расстроить Гитлера.
У Бормана была для этого даже разработана особая тактика. Он договаривался с кем-нибудь из присутствующих подбросить ему мяч в виде рассказа о какой-нибудь очередной подстрекательской речи священника или епископа, рассказ должен был вестись достаточно громко, чтобы привлечь внимание Гитлера. На вопрос последнего Борман замечал, что произошла неприятность, но вряд ли о ней стоит сейчас говорить, он не хотел бы портить Гитлеру обед. Но тут уже Гитлер начинал допытываться, а Борман, делая вид, что прямо-таки преодолевает себя, подробно все излагал.
Сердитые взгляды гостей смущали его столь же мало, как и наливавшееся кровью лицо Гитлера.
В нужный момент он извлекал из портфеля папку и зачитывал целые пассажи из подстрекательской речи или церковного послания.
После таких эпизодов Гитлер часто бывал в таком раздражении, что – верный признак гнева – начинал щелкать пальцами, переставал есть и грозил расквитаться. Ему легче было примириться с хулой и возмущением за рубежом, чем с непокорностью внутри. Невозможность обрушиться на неё карающим мечом доводила его до белого каления.
У Гитлера не было чувства юмора. Он предоставлял другим шутить, сам же смеялся громко и раскованно, он мог от смеха буквально сгибаться пополам, вытирая с глаз слезы.
Смеялся он охотно, но, в сущности, всегда за чужой счет.
Геббельс умел лучше всех развеселить каким-нибудь анекдотом Гитлера и одновременно унизить кого-либо из соперников: «Вот недавно, – рассказывал он, Гитлерюгенд потребовала от нас, чтобы мы распространили для печати заметку по случаю 25летия со дня рождения их начальника штаба Лаутербахера. Я распорядился направить ему небольшой текстовый набросок, в котором отмечалось, что он встречает свой день рождения „в полной физической и умственной ясности“. Больше мы ничего от него не слышали». Гитлер согнулся пополам от хохота, а Геббельс своей цели – дискредитировать занесшегося молодежного фюрера – достиг лучше, чем сделай он пространный доклад.
Гитлер охотно и часто рассказывал за обеденным столом о своих молодых годах и особо подчеркивал строгость воспитания: «Я частенько получал от отца здоровую взбучку. Сегодня я думаю, что это было необходимо и что это пошло на пользу».
Вильгельм Фрик, министр внутренних дел, как-то раз встрял тут своим блеющим голосом: «Да, уж сегодня по всему видать, что Вам, майн фюрер, это пошло на пользу».
За столом повис всеобщий парализующий ужас… Фрик пытается спасти ситуацию: «Я хотел сказать, майн фюрер, что поэтому Вы так далеко и пошли».
Геббельс, считавший Фрика за полного болвана, саркастически заметил: «Я полагаю, что Вас, дорогой Фрик, секли в молодости совершенно недостаточно!»
Гитлер засмеялся… ситуация разрядилась…
Искусство министров состояло в том, чтобы подгадать удобный час или минуту, когда Гитлер начинал беседу, и затем вбросить осторожно ремарку, которой затем придавалась форма «распоряжения фюрера». Достаточно было произнести за столом, что испанский генералиссимус Франко оказался слабым человеком, который в Германии «в лучшем случае возглавил нужник в казарме», и тотчас, как вихрь, это сообщение промчалось ко всем партийным чиновникам и министрам, и «акции» франкистов резко упали в цене.
25 февраля скоропостижно и неожиданно умер американский поверенный в делах Гильберт, с которым я обменивался мнениями на приёме менее месяца тому назад.
Я был на панихиде, где присутствовало так же много послов, не говоря уже о посланниках.
Это было характерно, что именно в этот час назначено торжественное открытие германо-японской выставки – древнеяпонское искусство, где должен присутствовать Гитлер.
Очевидно, большинство глав миссий предпочло уклониться от последней церемонии, придя на панихиду по американцу.
После панихиды беседуя с Игенбергсом – латвийский 1-й секретарь, я выяснил, что латвийцы весьма напряженно следят за развитием германо-чешских переговоров по поводу статуса немецкого меньшинства в Чехословакии.
Как известно, немцы не удовлетворены уже полученными от Праги уступками и выдвигают все новые требования, причем предела последних, по своему обыкновению, не намечают.
Прага по каждому требованию сначала пытается сопротивляться, но затем уступает.
Латышей беспокоит, что немцы, добившись максимума уступок от чехов и поставив немецкое меньшинство на положение чуть ли не экстерриториальности, воспользуются этим как прецедентом и станут добиваться аналогичных прав для немцев в других странах.
Эти домогательства могут быть направлены по адресу Венгрии, Румынии, Югославии, Польши, но наиболее опасны для Латвии, где немцам до сих пор никаких специальных прав не предоставлено.
Берлин всё время нападает на латышей, требуя разрешения латвийским немцам образовать особую политическую партию.
Латышское правительство до последнего времени отбивается от этих притязаний, выдвигая тот аргумент, что в Латвии, мол, партии вообще не разрешены, а поэтому нет основания делать исключения для немцев.
На это Берлин отвечает, что формально-юридически аргументация эта, быть может, и логична, но, мол, надо подойти к вопросу с точки зрения реальной политики и дать немцам в Латвии особые права.
Есть опасность, что после разрешения немецкого вопроса в Чехословакии, Берлин усилит нажим в этом направлении и на Ригу.
Из дальнейшего разговора выясняется, что посланник Кревиньш всё время болеет, это связано с тем, что человек он пожилой, одинокий, имеет массу знакомств среди немцев и не прочь выпить и закусить.
***
Москва, Кремль
Сталин читал последнее донесение Козырева из Берлина:
«Посылаю Вам карту с названием «Мы должны снова иметь колонии», выпущенную здесь в соответствии с ведущейся пропагандой о возвращении колоний. Из неё Вы увидите, что Германия считает «своими» не только Данциг и довоенные колонии, в том числе дальневосточные – уже занятые японцами, но и подчеркивает свои права на:
1) Прибалтику, как территорию, занимавшуюся немцами в XIII-XIV вв.;
2) Венесуэлу – была в залоге у аугсбургской торговой компании «Вельзер» в XVI в., Тринидад и Тобаго (Англия) – Южная Америка и Гамбию (Англия) – Западная Африка, как принадлежавшие Курляндскому герцогству в XVI-XVII вв.;
3) Гроссфридрихсбург (Англия), Токкорарии (Англия) и Аргвин (Франция) в Западной Африке, как принадлежавшие курфюршеству Бранденбургскому в XVII-XVIII вв.; и
4) бухту Делагоа (Португалия) в Южной Америке, Малабарский берег и Никобарские о-ва (Южная Индия), как бывшие владения Австро-Венгрии в XVIII в.
В сопроводительном тексте к карте содержится «намек» на Голландию, как «отколовшуюся часть рейха».
Сталин усмехнулся, отложил курьёз в сторону и принялся перечитывать более серьёзную информацию.
В ней Козырев сообщал, что все сведения, полученные им о переговорах Бека с Гитлером и Риббентропом, сходятся в том, что эти переговоры действительно не внесли существенных изменений в польско-германские отношения и не разрешили ни одного спорного вопроса.
Конкретно ставился лишь вопрос о германском коридоре, прорезывающем польский коридор, но дал ли Бек на это согласие – пока неизвестно.
Гитлер успокаивал Бека насчёт приписываемых ему происков в Карпатской и польской Украине, к которым Германия якобы не имеет отношения, и обещал, во всяком случае, не задевать интересов Польши.
Со своей стороны, Бек успокаивал Гитлера насчет дальнейшего сближения с СССР, что речь идет только о нормализации отношений и устранении разногласий, ранее накопившихся.
Как писал Козырев, у него создалось впечатление, что Гитлер не считает ещё возможным окончательно отбрасывать Польшу, опасаясь её сближения с нами, и поэтому совершенно неискренне говорил о проблемах, интересующих
Польшу.
Дочитав, Сталин задумчиво отложил донесение и принялся за текущие дела.
Литвинов недавно направил ему записку, в которой отмечал неоднократно выражавшееся желание Леона Блюма посетить Москву.
Нарком писал: «Ставит он и теперь вопрос в связи с намеченной им поездкой в Америку, где он хочет повести кампанию за образование широкого антифашистского блока с участием Америки и СССР. Он хотел бы на эту тему, а также об объединении социалистической и коммунистической партий поговорить с Вами лично».
Литвинов предлагал положительно отнестись к возможному приезду Блюма в Москву, который по мнению наркома, был бы более целесообразен после его поездки в САСШ.
Сталин решительно написал на записке наркоминдел:
«Не возражать против предложения тов. Литвинова по вопросу о приезде в СССР Блюма»
Следующим документом был проект протокола Политбюро.
Слушали Литвинова:
Об Аландских островах1.
Постановили:
1. Потребовать от Финляндии гарантии (если возможно обменом нот) недопущения использования укреплений третьими странами против советского флота или в качестве морской базы, угрожающей СССР.
2. Требовать объяснения по поводу сообщения в шведской газете о продаже Германии островов близ Котки.
Примечание1:
1 Международная конференция, проходившая в Женеве в октябре 1921 г., выработала Конвенцию о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов, принадлежавших Финляндии. Конвенция вступила в силу 6 апреля 1922 г. Советская Россия не участвовала в её выработке.
В начале 1939 г. Финляндия и Швеция, стремясь добиться отмены демилитаризации Аландских островов, обратились по этому вопросу в Совет Лиги Наций. Ещё в ноябре 1938 г. полпред СССР в Швеции А. Коллонтай сообщала в Москву: «В настоящий момент милитаризация Аланда всецело в руках Финляндии, а так как финляндская военщина всецело в руках финских фашистов, которые не раз заявляли, что они никогда не будут направлять с Аланда свои пушки против немцев, то возникает вопрос у более радикально мыслящей шведской общественности: в чьих же, собственно, интересах милитаризируется Аланд ?»
Вопрос о возможной милитаризации Аландских островов по поручению Сталина уже обсуждался на переговорах между представителями СССР и Финляндии в Москве в начале декабря прошлого 1938 года.
Тогда финская делегация выдвигала вопрос об укреплении Аландских островов, а советские представители выясняли возможность того, чтобы оборону на острове Суурсаари создавал всё же СССР.
К протоколу Сталин сделал приписку:
«Литвинову: обсудить вопрос об Аландских островах в Лиге Наций с целью оставить в силе Конвенцию 1921 г.»
Затем Сталин решительно дописал ещё один пункт протокола в «Постановили»:
3. Литвинову сделать правительству Финляндии предложение о сдаче СССР в аренду на 30 лет островов Гогланд, Лавансаари, Сейскари и Тюторсаари в Финском заливе для использования их в качестве наблюдательных пунктов на подступах к Ленинграду.
4. Направить тов. Штейна в Финляндию для выполнения миссии по поручению тов. Литвинова.
Мысль направить в Хельсинки советского дипломата Штейна у Сталина возникла не на пустом месте. Тот был полпредом СССР в Финляндии в 1932 -1934 годах.
В этот момент Генсека посетила ещё одна гениальная идея: «А пусть во время переговоров с руководителями Финляндии Штейн выдвинет предложение не только об аренде указанных островов, но и об их обмене на пограничные районы Советской Карелии».
Затем Сталин стал читать ещё одну записку Литвинова.
Тот писал, что Бонне – министр иностранных дел Франции, спрашивал у нашего полпреда Сурица, не считаем ли мы полезным приезд в Москву французской торговой делегации с участием представителей военной промышленности?
В своей записке Литвинов писал, что ему кажется, что торговые отношения с Францией более или менее урегулированы и нам от Франции в этом отношении ничего уже не нужно.
Возможно, что Бонне имеет в виду послать под флагом торговой делегации кого-либо для политического зондажа?
Далее Литвинов пишет, что ему кажется, что меньше всего мы должны позволять Франции прибегать к таким уловкам.
Во всяком случае, он просил указаний, какой ответ должен быть дан Бонне?
Сталин задумался, набил трубку, неспешно закурил, сделал пару затяжек. А затем решительно черкнул на записке: «Считать присылку делегации несвоевременной».
Глава 4
В начале марта Гитлер давал торжественный обед. Присутствовали все министры и дипкорпус. Дипломаты при входе представлялись Гитлеру и Риббентропу. При разбивке мест за столом никакого ущемления по отношению к нам допущено не было. Справа от нас сидели Липский и жена Геринга, слева Нейрат, а напротив Геринг и Гитлер.



