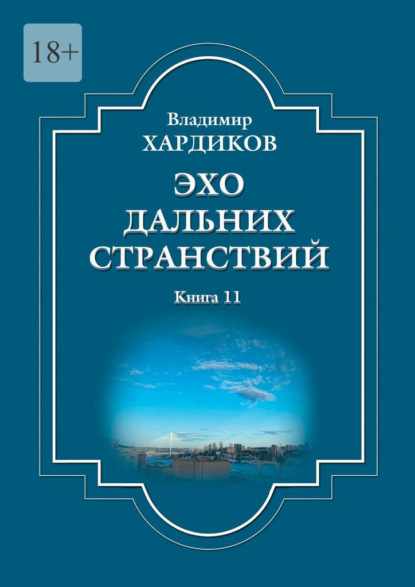
Полная версия:
Эхо дальних странствий. Книга 11
Правда, начал не с того конца, с вырубки виноградников, совершив очевидную глупость, ведь давно известно – к элитным сортам винограда, из которого производят марочные и коллекционные широко известные в мире вина, пьянство никаким боком не пришьёшь. Но как говаривали ещё на заре государства рабочих и крестьян: «Важен революционный порыв масс…», то есть всем понятная и объединяющая идея. Примеров борьбы с пьянством в мире было достаточно и до него, но ни один из них не принёс какого-либо положительного результата, а лишь усугублял проблему. Но, как пропагандировалось всегда, у нас свой особый путь, и чужие примеры не для нас – сами с усами. Народ перешёл на самогон, и пить стали ничуть не меньше, зато резко возросло количество отравлений и смертей по этой причине, пили всё, что горит, от тормозной жидкости до лосьонов, настоек и денатурата (метилового спирта).
Никому из них не приходило в голову: менять нужно саму порочную систему, а не искать виновных в порождённых, только ей присущих частностях, являющихся лишь следствием, но не причиной. Это всего лишь родимые пятна: забыли старый анекдот о публичном доме, не приносящем прибыли.
Вот почему остатки сахара в необъятных трюмах «Пскова» привлекли столь пристальное внимание местных жителей: что может быть лучше самогона из сахара с гарантией качества натурального продукта? Количество, собранное по сусекам, наверняка измерялось тоннами.
Казалось бы, пора заканчивать с приключениями, как-никак, шесть месяцев болтаемся в море, пора бы и домой наведаться, хотя бы на «побывку». Получилось почти как у Владимира Высоцкого: «А нам сказал спокойно капитан: „Ещё не вечер, ещё не вечер!“» Слова капитана Попова были иными, в чём-то загадочными и интригующими: «Не всё ещё спокойно в мире!», но суть оставалась неизменной, тем более в них сквозила какая-то слегка насмешливая дерзинка. Но мучившее всех состояние неопределённости продлилось недолго, и скоро многое прояснилось, хотя предстоящая неизвестность сохранялась вплоть до начала вскоре наступившей секретной операции. Последовал короткий заход во Владивосток с целью принятия на борт приспособлений для погрузки тяжеловесной техники и дополнительного экипажа. На рейде порта Славянка, расположенного в бухте Славянского залива, входящего в ещё больший залив Петра Великого, приподнялась завеса таинственности. Погрузили плавающие танки и в составе конвоя из четырёх судов, соблюдая меры скрытности, направились вдоль приморского побережья. Командование всей «операцией» находилось на «Пскове» как на самом комфортабельном судне с наличием свободных кают. Конвой зашёл в одну из многочисленных бухт, берега которой заросли лесом и напоминали непроходимую чащу, ведь по-другому и быть не могло – операция-то совершенно секретная. В тёмные воды незамутнённой бухты ухнули якоря, разбрызгивая брызги во все стороны, и снова наступила тишина. Откуда-то из береговых зарослей вынырнул катер и увёз офицеров и капитана в направлении берега, где, по всей видимости, скрывался секретный, тщательно замаскированный объект, невидимый с моря. В столь загадочной и секретной операции обязанность соблюдать светомаскировку и радиомолчание являлась обязательным условием. Об этом вахтенный помощник вспомнил, когда в непосредственной близости не увидел рядом стоящие суда, после чего выключил палубное освещение. На соседних пароходах тоже были офицеры, но почему-то не сообщили о нарушении светомаскировки на «Пскове», может, полагали, что флагман дал особое разрешение. Произошло это по случаю или обычному совпадению, неизвестно, хотя никто из командующего состава военморов на этом не настаивал, да и внимания не обращал, но палубное освещение внезапно погасло. Как раз в это время катер с «отдохнувшими» офицерами почти достиг парадного трапа, и внезапно наступившая темнота лишила ориентации рулевого, и, потеряв направление из виду, он разразился словами «благодарности» в адрес находящихся на мостике. Сейчас-то и пригодились вьетнамские подарки, в основном представленные рядами бутылок 35-градусной «Лямойки», которые капитан выменивал на деликатесы из продкладовых судна, и ничем не примечательная кладовка напротив каюты третьего помощника была оборудована под хранение широко известного вьетнамского напитка. Известно, в родном Отечестве зелёная валюта открывала все двери, и это в самый разгар борьбы с зелёным змием. Для советских офицеров такое добро и не снилось, тем более что коротать свою службу им приходилось в своих городках под присмотром жён, а там не сильно разбежишься. Вот они и вырвались на волю, да ещё на дармовщинку, начисто забыв о проводимой в стране кампании. Наконец-то сильно устав от трудов праведных, военные уснули, ведь завтра ждала «война».
Наутро, с первыми лучами солнца, вблизи мыса Клерка судовыми кранами спустили танки на воду, которые, грозно поводя орудийными стволами, атаковали берег с высадкой десанта. Но никто не оказывал сопротивления, и операция по захвату плацдарма прошла успешно, можно сказать, на отлично, благо никто не утонул, что следовало отметить подаренными капитаном бутылками с вьетнамским зельем. На «Пскове» недолго любовались необычным грандиозным зрелищем, ибо миссия закончилась, и снялись на Владивосток. Соседние суда тоже разбежались в разные стороны по своим назначениям и надобностям.
Вячеславу прислали ожидаемую замену, и наступила пора на время отрешиться от «водных процедур», вернувшись в лоно домашнего очага, хотя нужно было каким-то образом отрегулировать всё ещё висящие выплаты за дополнительные работы в течение затянувшегося рейса. С финансово-валютным отделом не забалуешь: настоящие тамошние зубры совсем не склонны выплачивать даже уже честно заработанное. Третий помощник, будучи кассовым, составил обязательные ведомости с конкретными фамилиями и трудозатратами. Все они должны быть подписаны капитаном, и для этой цели однажды старпом позвонил ему на домашний телефон. На проводе оказалась жена, принявшая Вячеслава за кого-то из управления пароходства, и сразу же начала убеждать, что смерть мужа никак не связана с алкоголем. По сути дела, даже без вопросов выболтала причину смерти капитана, о которой было неизвестно. Видимо, встреча с офицерами по выброске десанта сильно подкосила его здоровье, соревноваться с закалёнными и проспиртованными воинами – слишком большое испытание, и изношенное сердце не выдержало непосильной нагрузки. Так и не удалось увидеть «мастера». Кто знает, не будь этой военной операции в нескольких шагах от дома, он бы ещё пожил. Мир праху его!
Документы для выплаты экипажу чеков ВТБ за зачистку трюмов были аккуратно подготовлены в соответствии с самыми тщательными требованиями, придраться к которым не просто, всё необходимое присутствовало. При всём при том в финансово-валютном отделе групповой финансист укорил в незнании инструкции по выплате за выполнение дополнительных работ, а именно: если судно выходит из советского порта, то оплата производится в рублях по совершенно иным расценкам. Разница лишь в том, что экипаж получит сумму, почти вдвое превышающую расчётную, за одним лишь уточнением – она будет в «деревянных». Подходя с более прозаической точки зрения – по факту в пять раз меньше, ибо чеки ВТБ котируются 1 к 10. Сказать нечего – обложили красными флажками со всех сторон, как на волчьей охоте.
Но и в такой казавшейся неразрешимой ситуации пришлось искать мало-мальски приемлемое решение, нужно же «выбить» свои честно заработанные кровные, на худой конец хотя бы какую-то часть. Снова пришлось составлять необходимые письменные доказательства своей причастности к выполненным работам, хорошо, не требовалось их заверять у нотариуса. Но финансисты и тут не были лыком шиты, поняв, что на законных основаниях отфутболить настойчивых «попрошаек» не удастся, сменили тактику, прибегнув к совершенно другим аргументам, не имеющим ничего общего с их деятельностью, самовольно вмешиваясь в иную, неподвластную им епархию. Доводы были и вовсе рэкетирскими: «Заплатим эти злосчастные 300 чеков ВТБ, если докажете, что не нанесли ущерба акватории иностранного государства», то есть не загрязнили территориальные чужие воды. С какой бы стати им проявлять такую заботливость об экологии за многие тысячи миль от собственных берегов, да и не их эта стезя! Вот куда они дотянулись, хотя им никакого дела до этого нет, там другое ведомство, осуществляющее контроль за выполнением международных и внутренних государственных конвенций. Морское право, к которому они ни боком, ни припёком, самоназванные юристы международного уровня. Подтекст самого беззаконного требования, если сказать попроще, выглядел примерно так: «Вам не то что платить не стоит, но наказать следует! Куда подевали ржавчину и грязную воду после мытья трюмов?»
Раздосадованный откровенной ахинеей, которую без зазрения совести льют тебе в уши, Вячеслав перешёл в наступление, спросив, на каком основании групповой финансист санкционировал 13 выплат в течение года на один из балкеров пароходства типа «Художник», и, не слушая дальнейших объяснений, удалился, едва не хлопнув дверью, хотя очень хотелось. Информация была самая свежая, можно сказать, из первоисточника – от радиста того «Художника». Кто-кто, а радисты знают всё, через них проходит вся информация, начиная с личной переписки и до самых важных, не подлежащих оглашению сообщений. По всей видимости, это сильно насторожило финансиста, складывалось мнение, что и он не был забыт при дележе немалых чековых сумм. Иначе как понять последующее сальто-мортале, враз покончившее с бесконечными прошениями.
На судне третьего помощника обрадовали о только что пришедшем подтверждении на выплату экипажу надоевших 300 чековых рублей, всё-таки и вправду телеграммы идут быстрее пешехода. Оставалось лишь заказать деньги через агента «Трансфлота» и получить по капитанской доверенности. Таким вот не мытьём, а катаньем приходилось доказывать свою непричастность к верблюдам, «кораблям пустыни».
Через два-три года на «Пскове» случился пожар в машинном отделении, немецкие двигатели типа «Манн» – не самые лучшие среди известных мировых брендов. Восстанавливать уже пожившее судно было нецелесообразно, и его отправили на «гвозди», классическая участь пароходов, отработавших свой срок. Не надолго от него отстали и оставшиеся семь серийных судов-близнецов.
Но у Вячеслава были давние связи с серией судов типа «Варнемюнде», которых в пароходстве было больше «великолепной семёрки» на целую единицу. За несколько лет до «Пскова», в 1983 году, ему пришлось начинать свою трудовую деятельность на теплоходе «Павлодар». Но прежде поясним, как всё начиналось.
Наступил Новый 1983 год! В средней владивостокской мореходке перед самым Новым годом прошёл выпуск судоводителей из последнего набора на базе восьми классов. Похоже, он был самым качественным за все предыдущие годы, если учитывать только 24 человек, поступивших в 1978 году после окончания восьмого класса. Пришедших в следующем 1979 году сразу на второй курс десятиклассников, не прошедших по конкурсу в ДВВИМУ учитывать не стоит – с ними отдельная картина. Конкурс на вступительных экзаменах составлял 8 человек на место, если точнее, 30 мест на 243 претендента. Фактически на первый курс приняли 31 счастливчика из расчёта на отчисление оного неудачника по каким-либо причинам. Такая практика себя оправдала не только потому, что свято место пусто не бывает, а чисто в педагогических целях. Присутствие одного «лишнего» среди трёх десятков первокурсников постоянно напоминало каждому о зыбком положении: а не окажется ли он лишним. Висящий «дамоклов меч» заставлял всех без исключения сразу же включаться в учебный процесс и подчиняться непривычной для пацанов дисциплине. Прок в этом, несомненно, имелся, и не малый. После окончания первого курса группа «завоевала» два вымпела, таковая существовала форма поощрения. Была простимулирована званиями «Лучшей группы» и «Лучшего курса». Подобная исключительность выглядела довольно странно, ибо группа была единственной на курсе и лидирующее положение ей было обеспечено самим её существованием. Второе призовое место ни при каких обстоятельствах не грозило, обречена во время всего срока обучения быть первой и единственной. После первого семестра более половины курсантов, окончивших семестр без троек, начали получать повышенную стипендию (115%). Конечно, в рублях добавка чисто символическая, но в психологическом отношении довольно существенная. Кроме хорошистов двоим и вовсе назначили 125%, так как их средний балл превышал 4,75. К концу обучения проглядывались четыре красных диплома, очень высокий показатель, но действительность уполовинила их количество. Государственные экзамены стали камнем преткновения для двоих, наверное, слишком перенервничали накануне и не выдержали последний барьер. Красные дипломы являлись не только предметами гордости – главное, они давали возможность выбора судоходной компании среди всех дальневосточных пароходств. Естественно, они выбрали Дальневосточное пароходство – самое большое и во многом ориентированное на заграничное плавание, где сразу же направлялись на суда на штатных должностях помощников капитанов. Остальным в обязательном порядке нужно было отработать как минимум одну арктическую навигацию старшинами барж на судах-снабженцах по обеспечению северного завоза.
Таким образом, Вячеслав, оказавшись в числе двух счастливчиков, попал в Дальневосточное пароходство, с 1 марта 1983 года оказавшись в должности четвёртого помощника капитана на теплоходе «Павлодар», не достигнув даже 20-летнего возраста. Ссылаться на одно везение не приходится, всё-таки попадание в желанную двойку стало основанием для такого «везения». Везёт тому, кто сам везёт!
Вячеславу «повезло» захватить подходящие к своему порогу линейные плавания сухогрузных твиндечных судов, когда им на смену уже вовсю рвались линейные скоростные контейнеровозы, перехватывая обычные линейные грузы у своих обречённых на выход конкурентов. Эффективность их перевозок была несравнимо выше, чем у предшественников, прежде всего за счёт значительного сокращения стояночного времени в портах обработки.
Но пока «Павлодар» работал на линии FESCOSTRAITS, сложной, но в то же время очень интересной транс тихоокеанской линии между портами азиатских проливов в Индийский океан и побережьем Канады. Одно лишь их перечисление уносит тебя в книжное детство, когда они казались чисто фантасмагорическими, так и оставшимися в мечтах. Но иногда мечты имеют свойство воплощаться в реальность, и не только на Новый год.
Владивосток – 4—5 портов Канады, из которых Ванкувер в обязательном порядке – Гонконг – Манила – Бангкок – Сингапур – Кланг/Пинанг и обратно с заходом в 2—3 порта Японии с грузом на Владивосток. Многие порты казались поистине сказочными, с богатой историей на протяжением веков, о чём приходилось читать не отрываясь в далёком детстве, забыв о несделанных уроках. Освоение стран Юго-Восточной Азии, сопряжённое с борьбой за обладание пряностями, не только голая история, но и увлекательные приключения, которые превосходят надуманные пиратские романы о тех временах. Когда знакомишься с событиями тех лет, не покидает чувство приобщения к историческому прошлому, замешанному на крови, обманах и вечном соперничестве крупных международных компаний, таких знаменитых, как голландская Ост-Индская и английская Ост-Индская, первыми почувствовавшими, откуда ветер дует, и стоявшими за их спинами могучими морскими державами. Теперешние Молуккские острова потому и получили их первое название «Острова пряностей» сразу же после открытия европейцами.
В рейсе, когда на борту появился новоиспечённый четвёртый помощник капитана Вячеслав Корчун, штатного капитана Кабанкова Виктора Тимофеевича не было. В это время он присутствовал на суде в филлипинской столице Маниле, где за полгода до этого «Павлодар» совершил навал на новый причал контейнерного терминала. Хотя судно находилось под проводкой лоцмана, но в любом случае ответственность лежит на капитане. Швартовка к новому причалу являлась первой, и надо же случиться таковому. Чем закончилась тяжба пароходства с владельцами причала – неизвестно, хотя такие процессы могут длиться годами.
В своём большинстве экипаж работал на судне с приёмки в тогдашней ГДР на верфи «Росток», целых восемь лет. Предшественник Вячеслава в своей должности находился четыре года, и чем он не устраивал капитана – тоже потёмки, но замену на такой пароход долго не искали, хотя судно и на север заходит, правда на канадский. В этом рейсе судном командовал капитан Тихонов.
Может быть, совсем не к месту вспоминается рассказ старшего механика Бориса Евгеньевича Николаева, принимавшего пароход в Варнемюнде. В качестве развлечения для экипажа иногда организовывались экскурсии в какие-либо примечательные места. Так и на этот раз случилась очередная экскурсия, из-за которой пришлось пропустить обед в заводской столовой. Один из мотористов не принял в ней участия: то ли проспал, то ли приболел. Потому и наведался в столовую в одиночестве. Пообедав, подозвал официантку и вопросительно произнёс: «Секс», она, не сразу поняв, попросила повторить и снова услышала то же самое. Возмущённая откровенным хамством, пожаловалась своему шефу, который и решил разобраться, слишком уж невероятном ему показалось рассказанное женщиной. Конечно, советские моряки ещё те люди, от которых можно ждать всяких сюрпризов, много он их повидал, находясь на своём рабочем месте, но такое случилось впервые. Подошёл к страждущему и спросил, чего герр желает. Тот снова повторил заветное слово, не миновать большого скандала, но до моториста наконец-то дошло, за что принимают его просьбу, и, вспомнив о языке жестов при наличии рук, он объяснил своё желание закурить, единственными доступными в заводской столовой были сигареты «Зекс». Таким образом судовой моторист едва не оказался в роли сексуального маньяка.
А тут ещё по-своему «повезло»: находясь в первом же рейсе в официальной должности четвёртого помощника, на пароходе оказался капитан-наставник Усков Владимир Александрович, позднее погибший в Арктике при крушении вертолёта. Светлая ему память, хороший был человек и мастер своего дела. Естественно, своё пристальное внимание он обратил на зелёного, как советские три рубля, четвёртого помощника капитана, который и стал для мэтра тренировочной боксёрской грушей. За двухнедельный переход он заставил выучить своего подшефного все судовые устройства и оборудование. Спрашивал допустимую нагрузку на крышки трюмов и твиндеков, диаметр винта, вес якорей, калибр цепи, все системы пожаротушения и так далее и тому подобное. Наверное, это и сделало задел на дальнейшую работу в море – знать каждое судно, на котором работаешь, в деталях и до мелочей, которых быть не может. На стоянке во Владивостоке производилась замена поддерживающей жидкости гирокомпаса, в которой свободно плавает гиросфера, своей осью всегда ориентированная на север, специалистами радионавигационной камеры пароходства, которая случается не так часто, после отработки нескольких тысяч часов. Спустя несколько дней уже посереди океана по давно сложившейся традиции капитан вместе с капитаном-наставником после обеда поднялись на мостик и сразу же обратили внимание на необычность поведения парохода: солнце почему-то светило в лобовые иллюминаторы, хотя после полудня оно должно быть в южной четверти. Судно плавно описывало циркуляцию значительного радиуса, следуя указаниям гирокомпаса. Причина обнаружилась быстро – замкнуло обмотку ускоренного приведения чувствительного элемента в меридиан, и сфера поплыла куда глаза глядят, авторулевой, добросовестно выполняя свои обязанности, рулил вслед за гирокомпасом. К счастью, на судне оказалась запасная гиросфера, и хотя процедуру её замены Вячеслав знал только в теории, но с практической стороной, несмотря на собственное удивление, справился. Но на этом приключения с гирокомпасом не закончились: развязался мешок – успевай только собирать высыпавшееся. Вышла из строя помпа охлаждения, без которой гирокомпас также обречён на полный ступор. Скорее всего, при смене поддерживающей жидкости произошёл небольшой разлив, послуживший началом бед с помпой. Оставался единственный выход – охлаждать жидкость прямотоком, при котором автоматика бесполезна. Положение усугублялось узким диапазоном между допустимыми температурами, всего в несколько градусов: при понижении сфера садится на дно и перестаёт показывать направление; при повышении – поднимается вверх и упирается в крышку с тем же результатом. «Куда ни кинь – всюду клин!» Четвертому помощнику оставалось только дневать и ночевать в помещении гирокомпаса, где и признаков жилья не наблюдалось. Беда не приходит одна – мешок с напастями казался бездонным. Для прохождения шхер в северной части Канады, очень узких и извилистых, при следовании некоторыми из них полными ходами, казалось, ветки деревьев вот-вот заглянут в открытые боковые иллюминаторы кают. В таких случаях одновременно прибывали двое лоцманов для бессменной проводки судна, ибо даже остановиться на короткое время с отдачей якоря невозможно – сразу же окажешься на берегу. Экипаж на напряжённой линии был внушительным, и свободных кают не оставалось. Одного лоцмана селили в специальную лоцманскую каюту, а второго в каюту радиста, которого подселяли к начальнику радиостанции на диван. Но и на этот раз «повезло» – пришли три лоцмана, двое со стажёром. Добрались и до четвёртого помощника, которого переселили в судовой лазарет, чтобы часто звучащий ревун гирокомпаса в его каюте, извещавший о достижении максимальной температуры, не мешал подвахтенному лоцману отдыхать. Тогда и вовсе не стало возможности покидать помещение гирокомпаса, необходимо было контролировать температуру, находясь в непосредственной близости со столом основного курсоуказателя, иногда даже засыпать рядом с ним. Только в Ванкувере на одном из советских судов удалось найти помпу, токарь сумел подработать вал с подшипником под судовой размер, и наконец-то гирокомпас заработал в штатном режиме. Это были самые счастливые минуты в жизни Вячеслава в его первом линейном и заграничном рейсе. К тому же капитан-наставник пересел на другое судно и больше не доставал своего подшефного, хотя он и до этого понимал свалившееся на того отчаянное положение и не очень-то докапывался до него, хотя бы отчасти стараясь облегчить участь приговорённого к судовому курсоуказателю младшего помощника.
Первый порт Китимат в Британской Колумбии, названный по имени одного из индейских коренных племён. Население невелико, в порту два причала, на одном из которых грузят бумагу в рулонах, на втором – алюминий в чушках. Работают вахтовики, и желания выходить на берег ни у кого не возникло: судовые старожилы знают всё. Но нашлось и трое желающих, для которых посещение столь редкостного порта было в диковинку и к тому же первым в загранрейсе. Доктор, моторист, точнее, по официальной должности «помощник механика», как окончивший херсонскую мореходку по специальности «Эксплуатация судовых автоматизированных систем» – слишком сложно для понимания дилетантов, и четвёртый помощник. Увольнение в иностранном порту обязательными тройками, одиночки были вне закона – мало ли что ему в голову придёт, да и охмурить его проще пареной репы, ведь демоны не дремлют. Обязательный инструктаж помполита о поведении в иностранном порту с росписью в специальном журнале. К удивлению Вячеслава, его назначили старшим группы, несмотря на его дебютное выступление во всех жанрах. Выбирать было не из кого: доктор – женщина, моторист, будучи ровесником, к командному составу не относился – вот и весь выбор. Ощущение какой-то неожиданно свалившейся нереальности охватило Вячеслава: в первый раз оказаться за границей – и сразу же старшим группы! Что-то из очевидного-невероятного, но оно уже произошло. Получив подробный инструктаж у первого помощника, рассказавшего, «что там можно, что нельзя», расписался в специальном журнале, тем самым принял на себя ответственность за всю группу. Увольнение разрешалось только в светлое время суток, в нашем случае группа обязана вернуться к 17.00 по судовому времени. В первый раз четвёртый помощник не придал особого значения временной точности и на судно вернулись в 17.15, а там уже начинался переполох. Опоздание из увольнения в иностранном порту считалось грубым нарушением правил поведения советского моряка за границей и могло быть чревато самыми серьёзными последствиями, стоило их немного раздуть, придав соответствующую огласку. К тому же вина усугублялась первичным выходом на берег прибывшего новичка. Сразу же возникал вопрос, а что же дальше он может выкинуть, если в самом начале допустил столь грубое нарушение? Первый помощник Чаткин Валерий Васильевич, из бывших судоводителей, не так часто встречающихся среди судовых политработников, был сильно возмущён вопиющим, в его понимании, нарушением дисциплины и сразу же наложил на четвёртого «епитимью» в виде лишения увольнения до конца рейса!!! С подобным наказанием, казавшимся вовсе не заслуженным из-за опоздания на каких-то 15 минут, Вячеславу сталкиваться не приходилось, ему и в голову прийти не могло о том, что «Правила поведения советского моряка за границей» являются частью государственной политики и любое отклонение от них может оказаться губительным для всей дальнейшей морской карьеры или поставит крест на выходе за рубежи страны. Находясь на пороге радужных, почти сбывшихся надежд по узнаванию мира, в мановение ока потерять всё из-за ничтожной случайной оплошности, по сравнению с чем казарменные наказания с гауптвахтами и нарядами выглядят не более чем детскими игрушками. Только тогда он в полной мере стал понимать, где проходит красная черта доступности, за которую нельзя ни на сантиметр высовываться. Но дело было сделано, и оставалось только ожидать дальнейшего развития событий, никого не интересовало, намеренно или случайно произошло. Важен сам факт!



