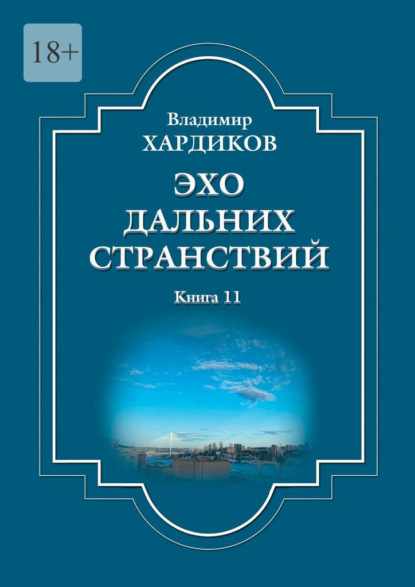
Полная версия:
Эхо дальних странствий. Книга 11
Проснувшийся капитан, убедившись в действительном утоплении грузовой марки, настоял на отгрузке части груза. Руководство лесного терминала, не на шутку раздосадованное действиями судовой администрации, в свою очередь направило жалобу в пароходство о неправомерных действиях ББС начальства, не очень-то сдерживая эмоции. Основным их доводом являлось утверждение о предыдущих загрузках подобных составов в количестве 11,5 тысяч кубов. А тут и вовсе нонсенс, дровишек-то намного меньше, и какой-то «ревизор», звать его никак, не только прекратил погрузку, но и заставил отгружать уже погруженное – ату его, в общем, спустили на него всех собак.
Из пароходства прибыла комиссия для расследования небывалого случая, но чтобы не тратить и без того упущенное время и не усугублять потери, предложила сниматься на порт назначения с имеемым на борту грузом. Но грузовой помощник снова упёрся, решив идти до конца – пан или пропал, тем более почти так говорил герой «12 стульев» товарищ Бендер, «отца русской демократии уже не спасёт это согласие», слишком далеко зашёл. Более того, согласие лишь усугубит его положение как срывающего план, желание потянуть с отходом и прочее и прочее. При желании можно найти множество причин и предать «анафеме», отлучив от пароходства, ибо система не терпит самодеятельных выскочек. Нужно доказывать собственную правоту, которая складывалась не в пользу судна. Ситуация и в самом деле была непонятна, и сразу же возникли вопросы к заполнению балластных танков. Он на удивление приехавших капитанов-наставников наотрез отказался выходить в рейс, и самостоятельно принялся производить замеры в танках, и накопал достаточно фактов, разъясняющих создавшееся положение, в котором никаких потусторонних сил не усматривалось. Всё оказалось намного проще: перемёрзли мерительные трубки танков, и футшток (измеряющая снасть с грузиком на конце, пронумерованная в метрах и сантиметрах) никоим образом не мог добраться до дна танков. Сам факт несовпадения длины футштока с расстоянием от палубной пробки до днища, которое явно противоречило предыдущим замерам, ничуть не смутил «дракона», и он, не мудрствуя, без зазрения совести, c чувством выполненного долга записал в журнал липовые замеры, совпадающие с предыдущими. Баржевый механик клялся едва ли не всеми святыми, что регулярно производил контрольные откатки, но стоило повторить процедуру в присутствии «ревизора», так и подтвердилась вся несостоятельность его клятвенных заверений, вода в танках всё же наличествовала, её откачали, но догружать больше не стали в целях экономии и без того потраченного напрасно времени и снялись в рейс. Погрузка дополнительного груза заняла бы немало времени, и даже общая сумма фрахта (платы за его перевозку) была бы недостаточной для компенсации.
Таким образом оказалось очевидным чисто формальное отношение к собственным обязанностям причастных к основной функции судна – окончанию самого важного момента погрузки, своего рода кульминации процесса, от которого зависит многое, а иногда и сама жизнь. Казалось бы, произошедшие оплошности при работе этих составов, и особенно гибель «Большерецка», должны никогда не забываться и заставить экипаж относиться к своему делу со всей ответственностью. Но время то ли не лечит, то ли напрочь отбивает память и даже инстинкт самосохранения. А при отсутствии действенного контроля и вовсе разлагает.
Судя по всему, случившееся не сильно подействовало на экипаж, вызвав неприязнь к новому второму помощнику, хотя по всей логике люди должны быть благодарны за напоминание о подстерегающей их опасности.
Тогда ещё присутствовали многие советские атрибуты и традиции, сложившиеся за десятилетия, в том числе так называемое внутрисудовое социалистическое соревнование. Оно проводилось в конце каждого месяца, и на нём давались оценки работе каждого в течение прошедшего периода, на основании чего и распределялся небольшой фонд премиальных, не дававших существенной прибавки к заработку, в большей части чисто моральный фактор, превратившийся в обязательную скучную рутину. На совещании командного состава старший помощник, ответственный за погрузку и безопасность палубного каравана и балластную систему, боцман – правая рука «чифа» – и баржевой механик, производивший контрольные откатки, получили оценку «хорошая работа», а грузовой второй помощник остался «без оценки», лишившись законной «десятки».
Таковы судовые выводы, ничего хорошего не сулящие, и можно лишь предположить: экипажам и судам, работающим по чисто формальному смыслу, в какой-то степени везло, и аварийные ситуации случались нечасто. Но бывали случаи, когда и не везло, хотя само слово придумали люди либо для своего оправдания, либо из зависти к добившимся больших успехов. Невезение в условиях штормовых зимних морей или выскакивающих из-за Филиппинского архипелага тайфунов есть не что иное, как неумение, халатность, незнание или столь привычный пофигизм с непременным авось.
Апрель 2025Хождение за три океана
«Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина во второй половине XV века, растянувшееся на целых шесть лет, известно по сохранившейся рукописи, которая была предъявлена великому князю московскому и владимирскому, отцу Ивана Грозного, Василию Третьему. Позднее она потерялась, и уже в гораздо поздние времена её обнаружили в одном из монастырей Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Сам купец, измотанный трудностями и рисками жизни во время беспримерного путешествия, умер на обратной дороге под Смоленском, входившим тогда в состав Великого княжества Литовского. Он посетил Индию на 30 лет раньше открывшего её португальского мореплавателя Васко да Гама, сухим путём, а не морским. Знаменитого мореплавателя, высадившегося в Каликуте, недалеко от Гоа, знают во всём мире, а имя Афанасия Никитина выглядит намного скромнее, да и соотечественники в своём большинстве о нём не осведомлены. А ведь наш первооткрыватель первым из европейцев проторил этот путь в неизвестное среди разных неведомых стран и народов, постоянно воюющих друг с другом, не говоря о пришельцах, заметных издалека, отличающихся не только одеждой и привычками, но и расовыми признаками, что привлекало особое внимание. Ему было неизмеримо труднее, чем поздним мореплавателям. Но на удивление он справился с казавшимися непреодолимыми трудностями, оставив после себя бесценные записки о путешествии с описанием обычаев встретившихся на его пути народов.
Отчасти поэтому настоящее повествование и получило своё название, отличное от его «Хождения за три моря», ибо какие-то параллели, кажущиеся несопоставимыми и невидимыми, всё-таки усматриваются. Оценивать так или нет, придётся читателям, заинтересовавшимся названием и последующим содержанием.
В 60—70-х годах прошлого столетия в пароходстве насчитывалось немало тогда ещё не «старичков», судов небольшого тоннажа типа «Андижан», построенных на верфях наших немецких партнёров и «опекаемых друзей» из Германской Демократической Республики, которую на современных географических и политических картах не найдёшь. Тогда же она являлась одной из самых развитых стран социалистического лагеря, сателлитов Советского Союза, и разделение труда своего рода предшественника позднего глобализма ощущалось в полной мере. Вся серия насчитывала более 30 пароходов, из-за их сравнительно недорогой цены вследствие простоты проекта – самых настоящих работяг без лишнего антуража. Длина чуть более сотни метров, грузовместимость около 4 тысяч тонн, и, как подавляющее количество тогдашних пароходов, они были твиндекерами, т. е. предназначенными для перевозок генеральных грузов, с грузовыми стрелами небольшой грузоподъёмности. Обитаемость также не отличалась изысканностью, но всё-таки лучше, чем на буксирах.
Кондиционеры не удосужились поставить, и экипажам не позавидуешь, когда суда оказывались в тропической зоне, особенно доставалось обслуживающим первую постоянную линию компании «Феско Индия лайн». И прежде всего приходилось страдать при грузовых операциях в индийских портах: тогдашних Бомбее, Мадрасе и других более мелких. Хотя они вследствие технического и физического старения там долго не продержались и были заменены более современными судами типа «Ленинская гвардия». По правде сказать, проект новых судов тоже был далеко не свежей выпечки – 1956 года. Но в любом случае они были на голову выше «Андижанов».
В зимнее время представители серии, которую словно в насмешку назвали именем узбекского города, работали в южно-азиатском регионе на перевозках того, что подвернётся, а с наступлением тёплого сезона их использовали в качестве судов-снабженцев. В Арктику их не пускали – слабый корпус без каких-либо ледовых подкреплений не позволял, но, как уже неоднократно пришлось убеждаться, «точек» и южнее полярного круга хватало. Но иногда, случалось, в случае чистой воды их как исключение из-за напряжённого северного завоза, нехватки судов и всё той же безликой «производственной необходимости» заталкивали в качестве снабженцев с баржами и тракторами для самовыгрузки в самые мелкие пункты северного побережья. Людей в них мало, но они тоже хотят жить. Далее Певека пароходы не доходили и успевали выскочить, пока Арктика не начинала сердиться, но лишь до поры до времени.
Арктической навигации 1983 года посвящено много книг и рассказов её непосредственных участников, и со временем она приобрела какой-то крайне жестокий синоним непроходимости. Но будущее можно только прогнозировать, и далеко не всегда прогнозы совпадают с реальной действительностью. Навигация предыдущего года оказалась мягкой, и суда вплоть до Тикси следовали по чистой воде, это и позволило говорить о неотвратимом потеплении, и многие гидрометеорологи переходили на совсем радужный тон, утверждая о скором «рае» на всей трассе Северного морского пути, в результате которого вскоре в Арктике льда не будет. Ледоколы останутся без работы, и сама идея их дальнейшего строительства подлежит изменению. Своего рода слова из советской кобзоно-патриотической песни: «Утверждают космонавты и мечтатели, и на Марсе будут яблони цвести!» В государственный карман потекут золотые реки от неимоверного количества пароходов под разными флагами из европейских стран в Азию по более короткому маршруту, на треть меньшему, чем по традиционному южному. Что-то очень напоминающее главного персонажа сказок, лежащего на печи и мечтающего о несметных богатствах. Но сказки потому и сказки – радужные замки на песке и молочные реки с кисельными берегами существуют лишь в воображении, но никогда не оправдываются.
Начало той навигации не предвещало особых трудностей, в глазах многих она склонялась к предыдущей, подтверждая предварительные прогнозы. Никому и в голову не приходило, что всё скоро изменится с точностью наоборот, но неожиданное произошло. Закрутили северные ветры, в считаные часы поменяв направление на противоположное, и массивные ледовые поля, отогнанные далеко к полюсу, начали дрейфовать к побережью, стараясь запломбировать всю трассу Северного морского пути и его самое больное место – пролив Лонга, что вскоре и произошло.
Один из дальневосточных «Андижанов», теплоход «Саранск», неизвестно каким образом затесавшись в числе судов-снабженцев за полярным кругом, оказался отрезанным от возвращения в родные порты. Куда уж ему, если даже атомоходы и мощные суда с усиленным ледовым поясом не могли пробиться на восток. С большой долей уверенности можно предположить: хотя классификационное общество морского судоходства Регистр СССР и запрещало эксплуатацию судов, не имевших ледовых подкреплений за полярным кругом, но оно находилось в подчинении Министерства морского флота и обязано было выполнять его указания. На местах существовала подобная система: Дальневосточное морское пароходство насчитывало около 70 тысяч работающих, из которых более 20 тысяч работников плавсостава. Если в компании происходили какие-либо нежелательные случаи, как то перебои с выполнением планов, нехватки судов на определённых направлениях, особенно это происходило в период северного завоза, то местное отделение Регистра давало, как правило, в виде исключения разрешения на разовый переход, изменение района плавания и на иные требующие немедленного решения запросы. Возможно, таким образом и оказался наш «Андижан» там, куда ему путь был заказан. Так он и очутился в ледовой западне со своим слабым корпусом, но в большой компании самых крепких пароходов. Будто в насмешку, беззащитный против льдов «Андижан» не получил ни одной пробоины, тогда как десятки действительно арктических судов, включая ледоколы, были изранены в борьбе с природой, которая, словно спохватившись, показала, что временное благодушие являлось лишь некоторым расслаблением. Раздавленный льдами, утонул один «Пионер», а второй чудом спасся, хотя казалось, судьба его решена.
Так и двинулась армада разномастных пароходов, палимая отнюдь не солнцем, а жестокими северными ветрами со снежными заносами, на запад – только туда ещё можно было выйти, всё больше удаляясь от своих портов и домашних очагов. Выход почти двух десятков судов в западный сектор Арктики – явление само по себе чрезвычайное, связанное со множеством проблем и громадными затратами: материальными, финансовыми, человеческими. В родном пароходстве после ухода целой флотилии на запад тоже наступает что-то сродни панике, оперативным отделом уже распределены суда на квартальные перевозки, а тут возникает такая прореха – что делать? Нужно срочно менять все намеченные планы и графики, дабы волки были сыты и овцы целы. И это не считая стоимости устранения ледовых повреждений, которые на многих судах были ужасающими, оставалось удивляться, почему они до сих пор держатся на плаву. По своей сложности переход чем-то напоминал эвакуацию кораблей Балтийского флота в августе 1941 года из главной базы Таллина до Кронштадта, разве что не было плавучих мин, которых с успехом заменяли острые как кинжалы плавающие льды и сидящие на дне стамухи, а вместо авиации – снежные заряды, уменьшающие видимость до нуля, да и время в несколько раз дольше, чем во время балтийского перехода. Всему приходит конец, и все суда вырвались из ледового плена, перейдя в западное полушарие, оказавшись в районе Архангельска, после чего на разных отечественных и иностранных судоремонтных заводах устраняли результаты арктических ледовых истязаний. Отечественные заводы не могли принять к ремонту столь много поврежденных пароходов, тем более собственные раненые суда были в приоритете, поэтому в срочном порядке подыскивались иностранцы в Финляндии, Германии, Бельгии и других странах, в спешном темпе обговаривались и заключались контракты на ремонт. Несмотря на дороговизну и валютные траты, это всё-таки являлось наименьшим злом по сравнению с долгими простоями в ожидании наступления очереди на своих верфях.
Одновременно с решением возникших указанных проблем начали прорабатывать возможные варианты возвращения флота в базовые порты своего региона. Очевидно, для судов небольшого тоннажа броски через океаны никоим образом не выгодны: никакие фрахтовые ставки не компенсируют затраты, ведь количество груза слишком мало. Для них в какой-то мере можно свести к минимуму общие потери лишь с прорабатыванием коротких рейсов в восточном направлении, по сути дела, небольшими прыжками, как у кузнечиков, от порта до порта. Потом были Балтийское море, Атлантический океан, Чёрное море, Индийский океан и моря Юго-Восточной Азии, где отбившиеся от дома мореплаватели чувствовали себя почти в родной стихии.
Перейдём к конкретному, уже знакомому нам «Саранску», а точнее, к заключительному отрезку его плавания уже в Юго-Восточных морях до базового порта. О переходе тропическим Индийским океаном под палящими, обжигающими и безжалостными лучами белого солнца на судне без кондиционера вспоминать не очень-то хочется – сплошное мучение, лишающее сна, вместо которого ночь погружала лишь в какое-то забытьё с кошмарами и сиюминутными вздрагиваниями. Каким-то образом пароходу нашли попутный оригинальный груз – подарки от Таиланда вечно борющемуся, правда, непонятно за что, братскому народу Северной Кореи. Трудно сказать, чьи эти подарки были на самом деле, тайскими или же отечественными, замаскированными под тайские, чтобы показать восхищение «славными делами» братьев по оружию. Почему из Сингапура? Да потому, что город-порт и является самым излюбленным местом для их приобретения, куда со всего мира приезжают туристы и группы людей для покупок самых дешёвых предметов от роскоши до самых обычных носильных вещей, сувениров и обычного ширпотреба. Погружённый в Сингапуре груз по большей части состоял из предметов роскоши по северокорейским представлениям: магнитофоны, аудиосистемы, зонтики, плакаты и многие другие изделия разного назначения. Что-то подсказывает о наличии двойного дна в этих подарках, в наследственной деспотии Кима Первого не принято делать подобные подарки широким массам подданных, разве что близкому окружению из высоких политических и военных деятелей у трона. Для народа и лишняя плошка риса – самый большой подарок, приуроченный к великим праздникам, назначенным солнцеликим, с действительно круглым, как само солнце, лицом, так что в самом сравнении нет ничего странного и необычного, похожего на сверх лизоблюдство перед вождём, но это лишь кажущееся со стороны.
Все погруженное добро сопровождали двое тайцев, и «Саранск» снялся назначением на северокорейский порт Нампхо, расположенный в Жёлтом море поблизости от столицы Пхеньяна. После прохождения всех премудрых формальностей, столь присущих нашим «друзьям», капитан получил очень странное указание от руководства порта следующего содержания, вполне под стать действующему авторитарному режиму: «Вооружить экипаж инструментами и начать разбирать всю „технику“ с целью обнаружения взрывчатых веществ, запрещённых к ввозу в страну. Сопровождающих шпионов высадить на берег для расстрела». Какое отношение может иметь руководство порта к столь абсурдным указаниям? От него за версту несёт запахом спецслужб, помешанных на теме заговоров. Вот так-то, ни больше ни меньше, власти в самом деле вообразили, что экипаж состоит из сапёров и можно не спрашивая командовать ими по своей личной прихоти, невзирая на гражданство страны союзника, оказывающей большую помощь режиму, благодаря чему он до сих пор и держится. Ознакомившись с содержанием императивного документа, капитан сразу же возразил: если в грузе имеются опасные и тем более взрывчатые вещества, он не намерен подвергать своих людей такой опасности, да и не входят подобные действия в их обязанности. Сопровождающих он тоже отказался высаживать на берег, когда их жизням угрожает смертельная опасность, без личных желания и согласия. Трудно представить поистине гротесковую картину с находящимися во всех трюмах членами экипажа, вооружёнными отвёртками и плоскогубцами, разбирающими новёхонькие бытовые приборы в целлофановой упаковке в фирменных картонных ящиках, к тому же не разбирающихся в аудио- и радиотехнике. Чем не сюжет для современной сверхмодной феерии, которая наверняка бы привлекла много желающих ознакомиться с суперавангардным, только начинающим пробивать дорогу театральным искусством. Но для наших друзей в этом не было ничего странного – всего лишь обычный безапелляционный стиль поведения, не обращающий внимания ни на какие нормы человеческого и законного общения даже касательно иностранцев. А далее всё было очень просто: сбросили швартовы с береговых кнехтов, не дав даже подготовить главный двигатель – «плывите куда хотите». Хорошо, что не арестовали, всё-таки красный флаг на корме защитил, хотя при серьёзных претензиях на него особого внимания не обращали.
Последовало ожидаемое распоряжение компании возвращать всё назад, ибо что делать с грузом – неизвестно, с этого момента он становится самой настоящей контрабандой при отсутствии соответствующих документов о принадлежности. Такой вот подарочек родному пароходству, похоже, фрахтователи тоже не были в курсе намечавшихся и происходящих таинств. Судовладелец всегда остаётся крайним, на которого натравят всех собак при любом раскладе – его легче всего достать, ибо судно является объектом недвижимой собственности из-за его немалой стоимости и арест во многих портах мира не представляет особой трудности. После чего, помимо заявленной претензии начинают накручиваться дополнительные расходы по его себестоимости, включая затраты по содержанию экипажа, оплату портовых расходов, бункера и много чего другого, в общей ежедневной сумме никак не меньше 5—6 тысяч зелёных долларов в сутки. На внешнем рейде Бангкока болтался на якоре теплоход-соотечественник «Павлодар», ожидавший своей участи: то ли постановки к причалу, то ли ещё чего-то. По тогдашней доброй традиции во время совместных стоянок в портах или на рейде судов под красным флагом частенько проходило «братание», всё-таки свежие люди разнообразили однообразную обстановку и вносили новую струю, хотя бы на несколько последующих дней. Обмен кинофильмами в этой процедуре был обязательным, свои уже надоели, может, у соседей имеется что-либо новое. Тогда ещё не существовали запреты на спуск и поездки на собственных шлюпках, и это преимущество использовалось в полной мере при рейдовых стоянках, не заказывать же в каждом случае через агента дорогой катер: финансово-валютный отдел не простит такого своеволия и необязательных трат иностранных валют.
Но в этот раз основной целью являлась передача обоих тайцев на борт «Павлодара», ибо ему предстоял заход в порт Бангкок. Для судна с внезапно обнаруженной контрабандой, в которую переквалифицировали сингапурские подарки для северных корейцев, заход в порты Таиланда был запрещён, благо на внешнем рейде разрешили постоять, естественно, без схода на берег. Впрочем, это являлось общей практикой для множества стран, и ничего удивительного в этом не было: контрабанда всегда считалась злейшим преступлением, ибо она затрагивала интересы самого государства, подрывая его экономическую основу, лишая пошлин и акцизов, налагаемых на ввозимые нелегально товары. К тому же сопровождающие тайцы, те ещё пройдохи, утверждали: по законам их страны они являются владельцами всей партии подарков, а их ввоз в страну облагается пошлиной, в пять раз превышающей саму стоимость. Пересадить ставших нежелательными пассажиров-сопровождающих на «Павлодар» по тем или иным причинам не получалось, не говоря уже о ставших колом проблем с грузом. Портовые власти категорически запретили пересаживание подозреваемых в злом умысле тайцев, «Павлодар» всё-таки дожидался свободного причала в Бангкоке. От безысходности новоявленные грузовладельцы предложили выбросить весь груз за борт, отчего у судовой команды едва не произошло массовое помешательство. В обстановке всеобщего дефицита, особенно многих не производящихся в Отечестве предметов, относящихся к роскошным, предполагаемые действия выглядели какой-то необъяснимой провокацией, в которую трудно поверить – не приснилось ли такое. В том-то и дело, что не приснилось – о коллективных сновидениях до этого слышать не приходилось. Едва ли кто-нибудь из экипажа смог заснуть в ту памятную ночь, мозг взрывался в поисках какого-то приемлемого выхода из тупиковой ситуации, когда на твоих глазах будут уничтожать предметы, являющиеся одними из самых желаемых в этот жизненный период. На них смотрели как на что-то недостижимое с чувством, похожим на реакцию любителя искусства, впервые оказавшегося в музее с мировыми шедеврами ушедшего прошлого.
Утром следующего дня старший механик огласил, казалось бы, несуразное предложение, обращённое к «владельцам» столь необычной контрабанды. «Если вы новоявленные собственники и владельцы столь безадресного груза, не сможете ли продать членам экипажа хотя бы его малую часть по остаточной стоимости?» Признаться, вопрос ошарашил как потенциальных покупателей, таких и самих владельцев. Они долго молчали, не понимая свалившегося на них счастья, но, вероятно, вспомнив пословицу «С паршивой овцы хоть шерсти клок!», согласились. Тут и пошла торговля по «мелочам» – самый настоящий аукцион с понижающимися ставками, желания были у всех, а с наличными намного труднее. Пришлось собирать остатки каких-либо забытых в карманах монет или мелких купюр, всё пошло в дело. Чеков о покупках хозяева подарков по понятным причинам не давали, поэтому пришлось для придания законности и легитимизации проводящимся торгам составить список фамилий купивших с указанием предметов и стоимости приобретённого, заверив его судовой печатью. Самая дорогостоящая современная аудиосистема по цене 22 сингапурских долларов (около 15 американских) досталась идейному вдохновителю, подсказавшему столь простое, на первый взгляд, решение – старшему механику.
В итоге весь экипаж обзавёлся аппаратурой, допустимой тогда существующими таможенными правилами, как то: стационарный магнитофон – один, переносной – один, портативный – один, радиоприёмник – один и т. д. по всему имеющемуся ассортименту «неликвидов». Очень даже похоже на украденное имущество доктора Шпака из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Оставшееся бесхозным дорогое имущество клятвенно обещали выбросить за борт, как только выйдут за пределы территориальных вод, во избежание загрязнения акватории, за что могут привлечь, ибо несоблюдение требований конвенции по загрязнению моря грозило серьёзными осязаемыми неприятностями. Как сказал третий помощник: «Сидим, как вороны на планшире, заглядывая в трюм, и ждём начала выгрузки оказавшейся „дармовщинки“».



