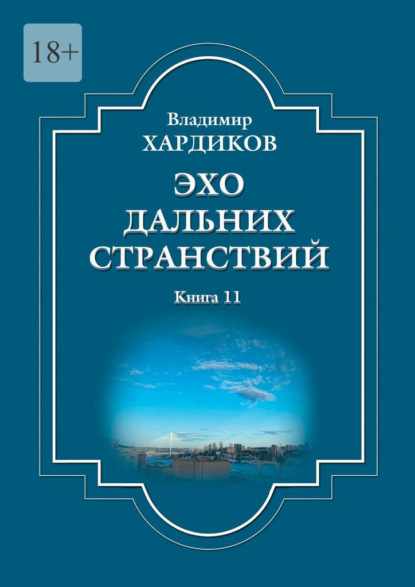
Полная версия:
Эхо дальних странствий. Книга 11
Спустя месяцы встреченные мореходы с теплохода «Саранск» рассказывали следующее, в целом не сильно разнящееся. С приходом в базовый порт все участники торгов получили настойчивое предложение, от которого было очень трудно отказаться: передать большую часть приобретённых законным путём товаров родному пароходству, представленному надёжными представителями. Вероятно, подарки понадобились иным людям, более в них нуждающимся. Большинство экипажа так и поступило, понимая: «как пришло, так и ушло», а бодаться с работодателем – не что иное, как приключение на собственную пятую точку. Да и само предложение в любой момент могло превратиться в банальную конфискацию с надуманными причинами, которые поставят точку на загранрейсах. Как ни странно, но нашлись и «отказники», пытавшиеся «качать права», и вскоре с ними было покончено – их уволили из компании по серьёзным доводам и моральной нечистоплотности, что могло искалечить оставшуюся жизнь не только конкретному «виновнику», но и всей его семье.
С высоты прошедших лет сейчас трудно разобраться, насколько соответствуют истине приключения «Саранска» на последнем этапе его возвращения после бродяжничества по трём океанам и в какой степени они совпадают с действительными событиями.
Можно лишь со стопроцентной уверенностью утверждать: на внешнем рейде тайской столицы Бангкока помимо «Саранска» находился теплоход «Павлодар», и обмен кинофильмами, несомненно, имел место.
Май 2025Дело было на «Пскове»
При первом взгляде на заголовок настоящего рассказа невольно возникает ассоциация с первой советской мелодрамой «Дело было в Пенькове», поставленной режиссёром Станиславом Ростоцким почти 70 лет тому назад. Много слёз было пролито миллионами женщин, никогда не видевших ничего подобного, но песню из того фильма со словами: «…а я люблю женатого…» до сих пор поют в конце шумных застолий пожилые матроны, умиляясь наивной, не такой уж редкой истории. Хотя сюжет прост как ближневосточные «дувалы», но и обычный тракторист с благородным лицом Вячеслава Тихонова, будущего Штирлица, не внушал доверия к вымышленному образу сельского механизатора. Впрочем, никто об этом не задумывался и Тихонов в одночасье стал любимцем всех женщин от мала до велика. Но в нашем случае не подразумевается конкретный населённый пункт – тогда было бы уместно «во Пскове», на самом же деле речь идёт о теплоходе «Псков», названном в честь старинного русского города с богатейшей историей.
Тёзка известного города был построен на верфи восточно-германской верфи Варнемюнде в 1974 году, которая и положила название всей серии. Пароход никак не относился к малышам с длиной за 150 метров и мощным главным двигателем более 11 тысяч лошадиных сил, не самым лучшим из известных тогда лидеров мирового судостроения. Суда строились в Германии, тогда и главный двигатель должен быть из «фатерланда», то есть «Манн». Главным преимуществом судов этого типа являлось наличие носового бульба, что сразу же говорило об их непричастности к пересечению полярного круга. Все пять трюмов были твиндечными, то есть универсальными, для перевозки генеральных и иных грузов, согласно существовавшей тогда мировой практике, хотя уже вовсю проглядывался новый этап в развитии судостроения и судоходства – строительство специализированных пароходов. Но уже на закате эпохи массового использования транспортов такого типа они ещё успели отщипнуть от «сладкого» пирога, поработав на международных линиях и даже в контейнерном варианте. Вскоре им на смену пришли специализированные контейнеровозы и балкеры, которые были намного эффективнее, и пришлось уступить место более прогрессивным веяниям. После свершившейся революции в контейнеризации суда типа «Варнемюнде» использовались на трамповых рейсах, проще говоря – куда пошлют. Отчасти они тоже были контейнеровозами, но не специализированными, уступая по вместимости более современным собратьям не менее чем в два раза, и выиграть соревнование с ними шансов не было. Если раньше они ориентировались только на заграницу, то перейдя в иное измерение, нередко стали использоваться в каботаже, что сразу же изменило к ним отношение плавсостава. Из-за начавшейся тогда инфляции и пустеющих полок магазинов с деревенеющим рублём не разбежишься, хотя и небольшая валютная прокладка была явно предпочтительнее. «Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше». Теплоход «Псков» был первым из восьми близнецов, пришедших в пароходство, можно сказать – родоначальником, но, с другой стороны, и самым возрастным.
В 1986 году, отработав приличное количество месяцев с регулярными рейсами на Петропавловск-Камчатский, всё же о нём вспомнили, а может, просто подвернулся в нужный момент, его отправили с необычным грузом в канадский Ванкувер для выставки «ЭКСПО-86». Груз и вовсе был уникальным: космический корабль «Восток» с многочисленным различным оборудованием к нему. Весь груз занял лишь часть четвёртого трюма, все остальные грузовые помещения остались пустыми, не считая воздуха, в них находящегося. Советский Союз уже здорово лихорадило, да и новый курс, объявленный молодым генсеком Горбачёвым, пришедшим на смену кремлёвским старцам, тоже вносил свою лепту. Государство, близившееся к своему закату, всеми силами старалось поддерживать прежнее реноме великой державы, не считаясь с затратами. Всё-таки космос являлся самым большим достижением социалистического строя, и его наглядная демонстрация – святое дело, против которого даже самые злые завистники возразить не могут. Тогда-то и повезло «Пскову», хотя цена этой перевозки зашкаливала: одно дело, когда космический корабль следует как попутный груз на гружёном судне, а совсем иное, если для него выделяют большой пароход, который одного топлива съест порядка 450 тонн, а это более 400 тысяч тогдашних долларов, или 800 тысяч в современном понимании. К сожалению, советский дальневосточный экспорт не был ориентирован на Канаду – возить туда было нечего. И это без многих иных затрат по содержанию судна, экипажа и оплате портовых расходов, глядишь, к миллиону подходит. В некоторой степени с топливом ещё и повезло: цена нефти упала в 3,5 раза. «Повезло» – понятие относительное: повезло для компании в данном рейсе, но для страны, ориентированной на экспорт углеводородов, это был удар, от которого она оправиться так и не смогла.
Выгрузка не заняла много времени, а тут и подоспела полная загрузка серы назначением на Северную Корею, когда не было нужды следовать в балласте за каким-либо другим грузом в неизвестном направлении, удорожая и без того немалые расходы. Основная болезнь всех твиндечных судов – трудность с подготовкой грузовых помещений к приёму следующего груза. Как правило, перед началом погрузки профессиональные сюрвейеры проверяют качество самих трюмов: они должны быть окрашены, не иметь ржавчины, остатков прежде перевозимых грузов и даже запаха. Подготовкой: зачисткой и мытьём – занимается экипаж: постороннему трудно представить, как после перевозки угля подготовить трюмы под зерно, да ещё на твиндекере, в трюмах которого выпирают поперечные рёбра жесткости – шпангоуты и продольные – стрингеры, а о твиндечном перекрытии и говорить не хочется, настолько много там уголков, отверстий и укромных местечек, где скрываются остатки предыдущих грузов. Необходимо вычистить многие тысячи квадратных метров поверхностей с самыми разными уклонами, и всё это во время океанских переходов со штормовыми условиями. Формально работа не входит в круг основных обязанностей экипажа, а в случае выполнения оплачивается отдельно по установленным ставкам для данного вида работ. Всё вроде бы ясно: не хочешь принимать участие в подготовке трюмов – не принимай, НО. Здесь наступает самое главное, по сути дела – момент истины: отказаться можешь, правда, в последний раз, ибо сразу же попадёшь в список неблагонадёжных, морально неустойчивых, которым не место среди людей, облечённых доверием Родины представлять её за границей. Круг замкнулся: лишение допуска к загранплаванию и увольнение из компании с волчьим билетом. Поэтому «назвался груздем – полезай в кузов», в смысле в трюм, да поспешай и вкалывай за страх и совесть вместе взятые.
Старший помощник прикинул предварительный расчёт и итоговую причитающуюся экипажу сумму за необязательные обязанности по подготовке трюмов и довёл до сведения каждого на общесудовом собрании. Деньги умеют считать все, независимо от образования, способностей, должностей и рангов, и в течение нескольких секунд без какой-либо калькуляции послышалось всеобщее одобрение. Сумма, выпадавшая на ординарный пай, впечатляла и вдохновляла на трудовые подвиги, о которых часто сообщали средства массовой информации. Сразу же после выхода из Владивостока, разделившись на бригады, с энтузиазмом принялись за дело, борясь со ржавчиной, от которой спасу нет в солёных водах морей и океанов, зачищая и окрашивая грузовые помещения.
Уже после выгрузки замечательного экспоната выставки «ЭКСПО-86» пароход отвели на рейд в ожидании освобождения причала, где будет производиться погрузка серы на Северную Корею, а заодно зачистить находившиеся под космическим экспонатом ещё не ухоженные места. О соблюдении необходимых правил техники безопасности говорить не приходится, дай бог, чтобы ничего не случилось, ибо по той же технике безопасности таковые опасные для жизни работы и вовсе недопустимы в открытом море, не говоря уже о северной части совсем не тихого океана.
Через судового агента раздобыли настоящую справку из стивидорной компании о расценках местных докеров при выполнении работ по подготовке трюмов судна в порту, ибо расценок о труде в море не существует, так как они попросту недопустимы. Но даже по стояночным нормам итоговая сумма впечатляла: 22 тысячи канадских долларов, где-то около 15 тысяч американских, из которых экипажу причиталось 2 тысячи инвалютных рублей. Казалось, для компании выгода очевидная, но только казалось, стоило вспомнить компенсацию за отказ от лоцманов в иностранных водах и портах, когда всего-то выплачивалось 5% в чеках ВТБ от сэкономленной суммы, то есть двадцатая часть, что заставляло насторожиться. Не любят они возвращать даже более правдоподобную часть честно заработанного, чтобы кур не смешить.
Приняв на борт серу – светло-жёлтые тяжелые, ничем не примечательные комочки, – «Псков» снялся на северокорейский Раджин, куда часто направлялись подобные перевозки. Груз во многом опасный, недаром он сопровождает, а зачастую олицетворяет все самые мрачные тайны подземного мира. При появлении столь специфичного запаха, отнюдь не парфюмного, невольно возникает беспокойство и стремление оглянуться – не появилась ли нечистая сила или кто-нибудь из её давних сподвижников. Сера является мощным катализатором окисления, и после её перевозки трюмы становятся рыжими от свежей, всё покрывающей ржавчины. К тому же груз тяжёлый, с малым удельным погрузочным объёмом, вызывающим чрезмерную остойчивость и соответствующую резкую стремительную качку с периодом около 9 секунд. Изнурительная, ни на минуту не прекращающаяся болтанка по методу «голова-ноги» преследовала на протяжении всего двухнедельного перехода, хотя приходилось петлять между островов Алеутской гряды, избегая встречи лоб в лоб со спешащими навстречу циклонами. Наверняка у многих наедине с собой возникали похожие мысли, как у шофёра Алика из «Кавказской пленницы»: «Будь проклят тот час, когда я сел за баранку этого пылесоса!» Спустя недолгое время мысли улетучивались вплоть до следующего раза, надо же было сбрасывать накапливающуюся день за днём отрицательную энергию.
Однажды во время этой свистопляски перед обедом капитан Попов, ныне почивший, Царствие ему Небесное, поднялся на мостик и отдал непонятное распоряжение: «Курс не менять!» Наверное, ему тоже было несладко и доставалось от всей широкой океанской души. К тому же его каюта на самой верхней палубе, непосредственно под штурманской рубкой, да и возраст не тот, что у молодых. Размахи качки, то есть амплитуда, увеличиваются в зависимости от высоты, и более умеренная наблюдается на нижнем ярусе, где расположены помещения рядового состава, судовой команды – как гласит устав. Сказано – сделано, приказ капитана – закон. По странному стечению обстоятельств в обеденное время судно вышло из-под прикрытия очередного острова, а до следующего нужно было бежать и бежать. Первая настоящая океанская волна, ворвавшаяся в пролив между островами, угодила в борт «Пскову», отчего резко увеличился крен, со столов посыпались тарелки и прочая посуда, загрохотало выброшенное из кают и помещений оборудование и имущество, настоящий девятый вал, хотя он был и первым по счёту. Появившийся на мостике для смены вахт второй помощник озабоченно поинтересовался о причине следования таким курсом, лагом (бортом) к волне, когда можно без помех изменить курс и курсовой угол набегающих волн, что очевидно из всех нормативных документов и особенно популярной тогда диаграммы Ремеза. После такой эволюции качка бы значительно уменьшилась и в дальнейшем, следуя галсами (зигзагами), можно сказать – противолодочным зигзагом, как это было во время большой войны при перевозке ленд-лизовских грузов из Штатов на советские дальневосточные порты, не представляло труда добраться под прикрытие следующего острова. Получив всё объясняющий ответ, сильно усомнился в его необходимости. Но пароход продолжал следовать по проложенному курсу, не обращая внимания на всё усиливающуюся качку, лишь поскрипывая, словно жалуясь на свою судьбу, на которую он обречён с самого рождения. Ветер свистел в снастях, и главную палубу заливали холодные волны Тихого океана, разбиваясь о стальные части корпуса, мгновенно теряли свою показную агрессивность, превращаясь в ручейки, уже без пены, и сбегали в родную стихию, чтобы взяться за старое. Таковое продолжалось недолго, судно всё больше раскачивалось и наконец-то попало в зону резонансной качки, когда начинающийся крениться пароход набегающая волна подталкивает в том же направлении. Первый помощник капитана, он же помполит, вышедший на мостик от скуки, оказался единственным, кто смог удержаться на своих двоих, скорее всего потому что находился в диаметральной плоскости, стремясь увидеть показания кренометра, точнее, максимальный угол крена. Все остальные находящиеся на мостике разлетелись по разным углам, ибо удержаться на ногах не смогли. Хотя кренометр и был разбалансирован и определённая ошибка в его показаниях присутствовала, но стрелка отклонялась до 32 градусов на оба борта, и всё же помполит утверждал, что она легла на конечный ограничитель, превышая разумные предположения. Каков оказался действительный крен, узнать не удалось, но как память о нём случился порядочный погром: барометр, находившийся в нескольких метрах от открытой двери, вылетел на крыло мостика, не коснувшись палубы, и только стеклянные брызги и покатившиеся внутренности остались на месте падения. С уцелевшей после первого причастия посудой, приготовленным обедом, камбузным оборудованием, сорванными со штатных креплений палубными и каютными устройствами случилась почти катастрофа, как при Мамаевом побоище, и только чудо позволило избежать полного разгрома, оставалось только собирать обломки и приводить судовые помещения и устройства в более-менее нормальное состояние, да и людям перевести дыхание. Но последствия были ужасны: всё, что могло разбиться – разбилось, сорваны с креплений двери, ящики, стулья и многое другое.
Корейский Раджин с босоногими женщинами в трюмах, и даже без простых масок-респираторов на лицах, в клубах ядовито-жёлтой пыли, разъедающей глаза и кожу, казавшимися какими-то бесплотными и неземными, оптимизма не добавил. Всех одолевало общее единственное желание: поскорее покинуть этот порт – оплот Кимовской империи, где люди – всего лишь расходный материал. Но отход, вопреки всем ожиданиям, задерживался – пришло указание грузить цемент на Вьетнам, где всё ещё продолжались большие восстановительные работы по ликвидации последствий нескольких десятков лет непрерывных войн. И снова клубы цементной пыли и те же бестелесные люди в трюмах без какой-либо предохраняющей униформы. Наблюдя за унылыми, обречёнными действиями людей, невольно напрашивался вопрос: «Каков их век? Как долго они могут прожить в удушающих условиях почти марсианской атмосферы?» По общему впечатлению Раджин изо всех северокорейских портов производил самое отвратительное зрелище безысходности и обречённости, наверное, потому что специализировался на переработке массовых навалочных грузов, совсем не благоухающих розами, а их пыль порой затмевает солнце.
При погрузке цемента в мешках необходимо вести счёт груза, иначе наши «братья» обжулят и не заметишь, для них это благое дело, чести, доблести и геройства, ведь они это делают не для себя, а для укрепления своего государства: «С миру по нитке – голому рубашка!» Экипажу и предстояло заняться тальманством (счётом погруженных мешков), очередной добровольно-принудительной ОБЯЗАННОСТЬЮ, не входящей в круг должностных. Оплата за работу во всё тех же чеках ВТБ, но корейские мизерные расценки сводили её к нулю, и желающих заниматься грязным делом не нашлось. В «добровольно-принудительном» порядке тальманами назначили младших командиров, хотя ещё пару лет тому назад никому бы и в голову не пришло отказаться, горбачёвская перестройка уже пустила свои корни, и прежде всего люди пытались извлечь личные преимущества. Для страховки во избежание возможной недостачи удалось уговорить корейских тальманов «не замечать» некоторые погруженные мешки за скромные подарки, преимущественно сигареты и консервы. Полагаясь на «договор дороже денег», после каждой смены сообщали второму помощнику, он же грузовой и «ревизор», о количестве лишних мешков в трюмах, что гарантировало отсутствие недостачи во Вьетнаме. Забегая вперёд, несмотря на все усилия, в порту выгрузки всё же выявилась недостача, ибо вьетнамцы не могли не надуть. А корейские тальманы подарки принимали и обещать могли что угодно, но дальше этого дело не шло – уж больно они боялись всевидящего ока своего обожаемого вождя Кима Первого, Ким Ир Сена – основателя и генералиссимуса государства нового типа, да и пропагандистский «патриотический» пресс в течение нескольких десятилетий давал о себе знать. «Титул» генералиссимуса станет наследственным и будет передан его наследнику и сыну Киму Второму, Ким Чен Иру.
О выгрузке во Вьетнаме никакой информации от агента не имели, что совсем не настраивало на радужный лад, ибо из прежнего опыта народ знал об безразмерности обещаний для судов с массовыми грузами и не только. Сайгон, нынешний Хо Ши Мин, самый большой город-мегаполис и порт Вьетнама, расположен в нескольких десятках километров вверх на реке Меконг, а в реку заводят лишь в преддверии недолгого ожидания короткой стоянки или непосредственной выгрузки. В противном случае предстоит долгое кукование в устье реки на внешнем рейде порта Вунгтау. В итоге в общей сложности простояли 22 суток, по сути дела пароход использовался как обычный склад из-за недостатка складских помещений в порту. Как показало время, вьетнамцы всё рассчитали верно, все накопившиеся долги в сумме более 20 миллиардов долларов позднее будут списаны, а на дармовщинку почему бы не использовать бесплатные пароходы по своему усмотрению. Длительные стоянки на рейдах тропических стран чреваты для каждого судна интенсивным обрастанием подводной части корпуса, появляется так называемая «борода» из множества микроорганизмов, водорослей и ракушек, после чего судно теряет несколько узлов скорости. Тащить за собой образовавшиеся на корпусе заросли совсем не просто – мощности главного двигателя не хватает, он перегревается и изнашивается гораздо быстрее, и всё выливается в кругленькие, совсем не малые суммы со многими нулями.
После вьетнамских страданий, загрузив партию риса в мешках, направились в кампучийский порт Компангсаом. В стране, только что пережившей самый настоящий геноцид, который унёс около 40% населения после экспериментов с крайне левым правительством красных кхмеров во главе с Пол Потом, было совсем плохо. Если бы не помощь Вьетнама, то кто знает, может быть, и вовсе коренное население в результате «перевоспитания» было бы уничтожено. Вьетнамским воинам, закалённым предшествующими войнами, не потребовалось много времени, чтобы снести антинародный режим. Но страна оказалась в нищенском состоянии: уничтожены промышленность и сельское хозяйство. При том что в таком климате собирают по три урожая риса в год, но люди голодали и умирали голодной смертью с раздувшимися животами скелетов, обтянутых жёлтой кожей, и провалившимися глазами. Во время выгрузки местные грузчики случайно обнаружили за деревянной обшивкой кусочки серы и поинтересовались у трюмного матроса назначением неизвестного вещества. Тот, в свою очередь, используя некоторые слова, жесты и мимику, в шутку назвал жёлтые комочки моющим средством. После чего вычищать трюмы с остатками прежних грузов не пришлось: кампучийцы под своей более чем скромной одеждой, если таковой считать коротенькие замызганные шорты и видавшую виду майку, изловчились вынести с судна все остатки серы до последней крошки. Вячеслав собственными глазами видел торговца, продававшего серу под видом мыла или ещё какого-то моющего средства. Тот сидел на корточках рядом с въездом в порт, в двух-трёх метрах от ограждения со стороны просёлочной дороги и портового шлагбаума, на его тряпице виднелись несколько кусочков серы, перепутать которые с чем-то невозможно.
Насмотревший местных диковин, в большинство которых и поверить-то невозможно, «Псков» снялся на таиландский Косичанг, откуда на постоянной основе шёл поток сахара-сырца, в основном на Японию. Климат позволяет выращивать в больших объёмах сахарный тростник не хуже, чем на Кубе. Три порта в Сиамском заливе: Косичанг, Срирача и Лаем Чабанг рядом с устьем реки Чао-Прайя – по своей сути являются аванпортами основного тайского порта Бангкок, расположенного в трёх часах следования вверх по реке. Он всегда загружен под завязку, но фарватер реки не допускает прохождения судов с осадкой более 7,9 метра во время прилива, и, соответственно, им приходится производить грузовые операции на упомянутых рейдах аванпортов. Отсюда и отправляются крупные партии сахара, гипса и зерновых, а погода в самом дальнем уголке, верхушке Сиамского залива, почти всегда благоприятна. Грузят большими баржами, на которых живут целыми семьями, груз судовыми стрелами или кранами перемещается крупноячеистыми грузовыми сетками, зависает над трюмом, и шустрые тайцы вскрывают мешки острыми ножами не хуже профессиональных мясников, отчего он просыпается в трюм. Несмотря на кажущуюся многоступенчатость и медлительность, погрузка проходит быстро: за 5—7 дней 10 тысяч тонн уже в трюмах до уровня тропической грузовой марки. На погоду грех жаловаться: тишина и маслянистая поверхность воды, лишь иногда подёрнутая рябью, всходящее из самого синего моря солнце, когда небо озаряется светлыми бликами, а потом на твоих глазах понемногу показывается само светило, увеличенное рефракцией на границе двух сред. Вечером – противоположная картина, и солнце тонет в море вдали за горизонтом, оставляя после себя ярко-красные багряные облака, подсвеченные снизу. Невозможно оторвать глаза от повторяющегося ежедневного зрелища, которое завораживает, и тогда приходят мысли о бесконечности и таинствах космоса. Как можно думать иначе, когда дневное светило кажется огромным и близким, хотя до него 150 миллионов километров, гораздо более 10 тысяч земных диаметров. Только тогда и осознаёшь величие и мощь нашей родной звезды, породившей жизнь и окружающие её планеты. Как-то не уживается в сознании понимание Солнца как всего лишь средней, ничем не примечательной звезды в Галактике Млечного пути, не говоря уже о Вселенной. Звёздное небо нужно было видеть, ибо рассказать о нём не хватает слов: в иссиня-чёрном небе звёзды кажутся чистой воды бриллиантами, различаясь только каратами. Земная подсветка отсутствует, и резкий контраст намного увеличивает их сияние и величину, невозможно поверить в реальность света, который ты видишь, и понять, что ему от роду миллионы и миллиарды световых лет. Что-то выходящее за пределы нашего разума, не поддающееся осознанию и осмыслению. Таков самый настоящий макромир, по законам которого живёт наша Вселенная, жаль, мы не знаем большую часть её канонов, хотя кто знает, не поехала бы «собственная крыша», от узнавания лишь их ничтожной части.
Поутру сотни, а может, и тысячи мелких рыболовных судёнышек выходят из реки и устремляются на лов рыбы: кто-то в самом заливе, а кто-то стремится подальше, известно: хорошая рыбалка вчерашняя и завтрашняя, а крупная рыба там, где подальше. Вечером они возвращаются кто с чем: кому-то повезло, а кому не очень. Но немало и остающихся на ночную рыбалку, неизвестно, что они там ловят, на ум приходит только кальмар, но стада головоногих всё-таки активны по сезонам. Впрочем, профессионалы разберутся и без нас, рыбалка – это их жизнь и труд, источник существования семей.
Япония – есть Япония, и сахар, впрочем, как и любой другой импорт, пришёлся ей по вкусу. Всё чинно, спокойно, размеренно, отточено, а докеры и в самом деле выглядят и держатся как гегемоны. С трудом верится: как такие противоположности могут уживаться на одном и том же азиатском континенте в непосредственной близости друг от друга, всего лишь через Корейский неширокий пролив. Задержек при выгрузке сахара не возникло, и спустя несколько дней судно там же приняло трубы большого диаметра для газовиков или нефтяников страны, при её необозримых просторах стальных артерий нужно построить многие десятки тысяч километров. Подземные кладовые, даже по самым скромным подсчётам, должны обеспечить безбедную жизнь на долгие годы, хотя, с другой стороны, ощущение богатства разлагает государство, ибо отсутствует стимул для движения вперёд. «Если нет у нас такого, то когда захотим и сколь потребуется – купим!» Стальные трубы выгружали в Посьете, самом южном приморском порту, и тут произошло совершенно неожиданное, до мелочей напоминающее Кампучию, только вместо серы оказались остатки сахара, спрятавшиеся в самых потаённых уголках. Отечественные докеры даже вскрыли всю деревянную обшивку в трюмах и вычистили их, будто языками облизали. Секрета в том не было, сырьё для изготовления самогона, да ещё из сахара, в то время приобрело какой-то почти сакральный характер. Пришедший молодой лидер-реформатор Горбачёв, провозгласивший перестройку и гласность, похоже, не знал, с чего начать, и, уподобляясь недавнему предшественнику Андропову, прославившемуся облавами на «бездельников» в рабочее время, последовал его примеру. Первый искал причину неудач в безответственности и отсутствии дисциплины, а второй в повальном пьянстве и объявил настоящую войну «зелёному змию».



