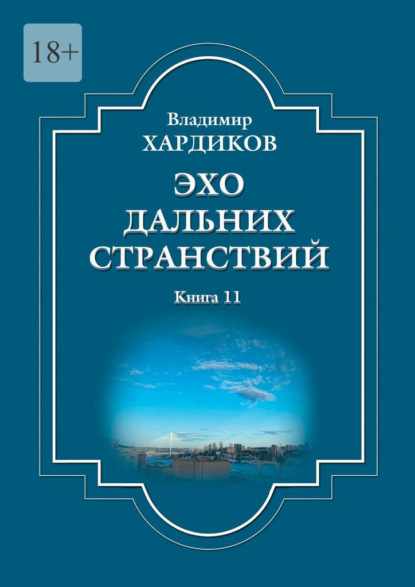
Полная версия:
Эхо дальних странствий. Книга 11
По правилам порта при обработке судов с опасными грузами погрузочно-разгрузочные операции должны осуществляться на рейде, но так уж случилось – личные связи зачастую значат намного больше, чем строжайшие постановления, запреты и указания, к которым быстро привыкают. Если же не происходит ничего угрожающего, касающегося их неисполнения, то частенько и вовсе забывают об их существовании, всякий раз действуя по прихоти дежурного диспетчера. Ну, а если он встал не с той ноги, то усилия могут оказаться бесполезными – последует ссылка на обязательное выполнение постановления по порту. По сути дела, «куда хочу – туда и ворочу». А тут ещё свою роль сыграло знакомство «чифа», старшего помощника, с главным диспетчером порта, и без лишних вопросов судно оказалось у причала, к чему впоследствии будет много вопросов. Получается, как в той поговорке: «не надо искать на свою попу приключений», всё верно, но кто об этом мог подумать, «дорога в ад выстлана благими намерениями». Слава богу, времена изменились, и отправка на Колыму уже не представлялась избавлением от неизбежного расстрела, но в любом случае хорошего было мало.
Каюта доктора находилась поблизости от места происшествия, но судовой «лепила», переходя на лагерный язык, – по-другому его назвать язык не поворачивается, – не очень-то жаждал заниматься покалеченным «дедом», хотя в этом и было его предназначение. Содержал каюту в чистоте, и для него являлось главным не запачкать ежедневно поддерживаемую чистоту кровью – вроде бы примета плохая. Стоило больших трудов призвать его к выполнению прямых обязанностей по оказанию первой помощи пострадавшему под угрозой списания с судна и отправки в распоряжение «Водздрава». Да и впечатление создалось: тот ли он, за кого себя выдает? На какие только выдумки не пускались проходимцы всех мастей, чтобы попасть в Японию за машинами, и все средства для них были хороши.
Вскоре все представители силовых структур налетели на судно, словно пчёлы на мёд: милиция, ФСБ и какие-то иные неизвестные представители секретных ведомств. Все озаботились происхождением банки со взрывчаткой, очень уж похоже на терроризм – самое страшное преступление, которое возможно в тогдашних политико-социальных условиях, напоминающее тот же бикфордов шнур, чтобы вызвать ещё большее напряжение в готовой взорваться стране. В сохранившихся фрагментах крышки – взорвалась только она-обнаружили остатки взрывчатого вещества вместе с кусочками металла. Всех волновало происхождение взрывчатки. Существующая, всех устраивающая версия о принадлежности её к грузу оказалась несостоятельной – никакого отношения к нему она не имела, что свидетельствовало о заранее намеченном плане. Хотя кто знает, вполне могло быть и простое совпадение с беспределом, творившимся в стране, но в любом случае уповать на случайность было нельзя. Слишком велика могла быть цена ошибки.
Случившееся на борту чрезвычайное происшествие было освещено в ежедневной всесоюзной телевизионной программе «Время» с подтекстом, что если бы инцидент произошёл на баке, где находились контейнеры с патронами и ещё кое-что покруче, а в трюмах мощная взрывчатка, то чукотская столица была бы стёрта с карты России, 2400 тонн взрывчатки не оставили бы камня на камне от и без того голой тундры с небольшими рощицами хвойных деревьев в защищённых от жестоких ветров распадках. Находящаяся в трюмах взрывчатка сдетонировала и разнесла бы пароход на атомы. По судну долго ходили самые различные слухи: от вмешательства инопланетян до банального вымогательства, и целью взрыва являлось запугивание экипажа. Некоторые и вовсе договаривались до абсурда: жена капитана Кудлая в разговоре с женой старшего механика высказала мнение, что «дед» намеревался погубить весь экипаж. Кто ей разрешил распространять ничем не подкрепленные сплетни – неизвестно, они лишь порождают взаимное недоверие и подозрительность и по своей сути разлагают экипаж. Да и не её это дело – лезть со своими бредовыми вымыслами во внутреннюю жизнь судового коллектива, не иначе вообразила себя Раисой Горбачёвой, шла бы лучше к своим ученикам младших классов заниматься профессиональным делом или в администраторы какой-либо гостиницы, где она имела опыт, о котором не жалела, но никому и не рассказывала – гордиться было нечем. Нужно помнить русскую пословицу: «Всяк сверчок знай свой шесток», судя по всему, она о ней и не слыхивала. Находящийся в эксплуатации пароход с заграничными рейсами – не местный рынок, где толкуют словоохотливые кумушки, разнося сплетни на всю округу. Но молчание для неё было хуже самой изощрённой пытки, всё-таки учительница если начнёт говорить, то остановить её не просто.
Трудно сказать, чем закончилось расследование засекреченного случая, но не вызывает сомнения: до двоих пластунских рэкетиров наверняка добрались и трясли их за милую душу. На фоне случившегося они и выглядели основными подозреваемыми после совершённой откровенной наглой выходки, свидетельствовавшей об их сомнительном умственном развитии. Совершенно ясно: настоящие профессионалы так делать не будут, зачем им так подставляться, оставляя столь очевидный след, да и цель совсем не оправдывала средства. Что касается серьёзных иностранных выгодоприобретателей, то инцидент являлся лишь маловероятной версией: страна и без того находилась в критическом состоянии, и никто не был заинтересован в углублении эскалации такого масштаба. Надеяться, что пронесёт, было бесполезно и неоправданно, страна с неконтролируемым количеством ядерных боеголовок представляла угрозу всему человечеству. Само устройство было примитивно изготовленным, явно самодельное. Достать взрывчатку и бикфордов шнур в то время не представляло особого труда, хотя, естественно, ни о какой свободной продаже речи быть не могло. Приморский край был буквально нашпигован военными частями самых разных назначений и складами с оружием и амуницией, а заведующие всем этим имуществом прапорщики и мичманы распродавали содержимое направо и налево, каждому нуждающемуся. Впрочем, этим занимались не только они, но и старшие офицеры, и вопрос с поиском компонентов для изготовления адской машины не стоял. На военных складах случались нередкие пожары по тем или иным причинам, и под эту лавочку списывалось всё оставшееся имущество и вооружение.
На судне никто, исключая стармеха, не пострадал, и каких-либо карательных мер не последовало – все остались на своих местах, но разговоров хватило надолго, которые со временем всё более обрастали несуществующими подробностями, разрастаясь вглубь и вширь.
А фраза «а если бы он вёз патроны» давно стала нарицательной и впервые прозвучала в старом советском кинофильме 1964 года «Непридуманная история» режиссёра Герасимова.
Апрель 2025Барже-буксирные составы и эзотерика
На протяжении десятилетий хвойные породы сибирской и дальневосточной древесины являлись основной статьёй советского экспорта через дальневосточные порты в Японию. Но к началу 70-х годов из-за интенсивной вырубки леса заметно поредели и порубочные делянки постепенно смещались на север, что значительно удорожало их доставку к портам. В то же время на девственных берегах нижнего Амура устремлялись к небу теряющиеся в выси стройные стволы корабельных созревших деревьев. Сухопутного доступа к ним не было, дороги отсутствовали, и единственным транспортным путём являлась великая река, нёсшая свои воды к Японскому и Охотскому морям, можно сказать, к их водоразделу, откуда просматривался остров Сахалин. Вывоз называемого профессионалами кругляка с Амура почти монопольно контролировали японские перевозчики, поднимая ставки фрахта в зависимости от собственных желаний, а отечественные лишь пытались укусить себя за локоть, до которого не могли дотянуться. Всё упиралось в глубины на баре реки, которые были доступны лишь японским лесовозам с малой осадкой, позволяющей форсировать мелководное устье перед выходом в море. Таких судов в Дальневосточном пароходстве просто не было, а прежние «сигары», плоты из тысяч брёвен, больше отстаивались, чем следовали по назначению. Скорость их буксировки не давала возможности вовремя спрятаться от надвигающегося шторма, и нередко остатки разбитых плотов ещё долго дрейфовали в море по воле ветра и течений, представляя угрозу судоходству.
Новый молодой начальник пароходства Валентин Петрович Бянкин, неугомонный новатор и генератор передовых идей, опередивший своё время, не мог смириться с существовавшим положением и искал пути к тому, чтобы потеснить японцев на Амуре, а при удаче и вовсе выдавить. При его непосредственном участии был подготовлен проект строительства нескольких барже-буксирных составов с осадкой, позволяющей в полном грузу проходить амурский бар. Комплекс состоял из буксира-толкача с двумя баржами, способными брать на борт 6 тысяч кубических метров древесины. Буксир, состыковавшись с баржей, доставлял её в порт выгрузки и тут же следовал за второй. Приводил её, оставляя на попечение японским докерам для выгрузки, а сам забирал первую, уже выгруженную. Идея была хороша, весь состав должен действовать без промедлений и остановок, как хорошо отлаженный механизм швейцарских часов, что должно обеспечиваться наличием двух барж и отсутствием холостых пробегов буксира. К тому же предусматривалась выгрузка леса с помощью кренования, т. е. в специальном затоне, где производилась выгрузка, баржа накренялась, и большая часть брёвен скатывалась в воду. Необходимое кренование осуществлялось специальными «антиролинговыми» танками, наполнение и осушение которых производилось мощными насосами в считаные минуты. Забегая вперёд, следует отметить: позднее японцы запретили такой способ выгрузки по экологическим проблемам: кора брёвен загрязняла бухту или затон, осаждаясь и подвергаясь гниению, уничтожая подводные флору и фауну. Сдаётся, причина была не только в этом: профсоюзы являлись очень значительной силой и в этом усматривали нарушение их законных прав: снижались нормы выгрузки, что сразу же сказывалось на заработной плате, а на это пойти они никак не могли, заработок – это святое и не подлежит обсуждению.
Проект прошёл все согласования, и строительство планировалось на японских верфях. Казалось бы, всё в порядке и совсем скоро японским перевозчикам придётся здорово потесниться, да и фрахтовые ставки тоже не будут произвольными в результате конкуренции. Но японцы и здесь оказались хитроумными под стать штабс-капитану Рыбникову из одноименного рассказа Александра Ивановича Куприна. На предварительных переговорах по заказу барже-буксирных составов никого из пароходства не пригласили, не видя в том необходимости – и так всё ясно. Японцы, зная советскую неразбериху и путаницу, предложили увеличить грузоподъёмность барж вдвое, до 12 тысяч кубических метров, а стоимость всего-навсего на одну треть. В министерстве деньги считать умели и, потирая руки в предчувствии столь удачной сделки, сразу же согласились.
В итоге заказали четыре комплекса: четыре буксира-толкача и восемь барж, но из-за большей грузоподъёмности увеличилась и осадка, составы не могли проходить в Амур. Основная идея была похерена, и японцы ещё долго оставались хозяевами речных перевозок. Таковы нюансы плановой системы: всё вокруг моё, а по сути дела – ничьё. Делать нечего, караван ушёл, и нужно было трудоустраивать комплексы как обычные лесовозы из портов Приморья и южных частей Хабаровского края. Спорить или что-то доказывать министерству – дело гиблое, сравнимое с плевками в зеркало, и ничего хорошего не принесёт, разве что настроит против, а найти, к чему придраться, не проблема. Все построенные лесовозы вошли в состав компании во второй половине 70-х годов. Так они и работали, ни шатко ни валко, иногда простаивая без работы. Трудно сказать, какова была эффективность этих потомков давних «сигар», но в любом случае далека от расчётной, которая планировалась с возникновением самой идеи. Составы относились к «домашним» пароходам, хотя жилые и бытовые условия на малых буксирах не отличались комфортом, но люди на них держались.
Их значимость значительно подскочила с началом автомобильного бума: если раньше после выгрузки леса в японских портах они возвращались в балласте или в определённый период с грузом труб большого диаметра для строительства северных газопроводов, которые, как паутина, всё больше опутывали страну. Мировая экономика развивалась и росла, требуя всё большее количество углеводородов, и, соответственно, стахановскими темпами увеличивалась путепроводная сеть. Но с наступлением кризиса цены на жидкое чёрное золото и сопутствующий природный газ из подземных кладовых начали снижаться и повлекли уменьшение закупок труб большого диаметра, да и их производство началось в Стране Советов, уменьшая зависимость от иностранных мощностей. Как раз ко времени оказалось разрешение правительства на покупку подержанных иностранных автомашин, и пошло-поехало. Стальная палуба барж идеально подходила для погрузки уже походивших на родине изделий японского автопрома, и на ней спокойно могли соседствовать «тойоты», «ниссаны», «хонды», «мицубиси». Оставалось только приварить детали крепления в виде рымов и снабжения крепёжными деталями: скобами, талрепами и тонкими концами, что не заняло много времени. Да и пароходство в убытке не оставалось, беря за перевозку на начальном этапе около 300 долларов, потом цена будет постепенно повышаться. Таким образом наследники забытых «сигар» превратились в избранных белых лебедей, и попасть в состав экипажа было совсем непросто, не каждому по карману, а делиться было необходимо, иначе и разговора не будет. Вроде бы никто и не просил, но все об этом знали, хотя круг, причастный к волшебству, был сильно ограничен и редко кому удавалось попасть со стороны.
За окном зима начала 90-х годов, безнадёга и никаких радужных перспектив, свет в конце тоннеля не проглядывается, да и покажется ли он когда-нибудь? Вячеслав Корчун неожиданно для себя получил направление на барже-буксирный состав (ББС) «Байкальск», чистый «автомобилевоз», что не могло не радовать как возможность улучшить своё материальное положение. Междугородное сообщение зачастую не выдерживало никаких графиков, иногда и вовсе отменялись автобусы и ж/д электрички, не говоря о городском транспорте, и поэтому явился на буксир очень рано, ещё до зимнего позднего рассвета. Каюта «ревизора» невелика, впрочем, как и все остальные – буксир всё-таки не трансатлантический лайнер или магистральный контейнеровоз. Чтобы не будить своего коллегу, тихонько пристроился на диванчике в ожидании его пробуждения. Спустя какое-то время приоткрыл глаз и заметил сдающего второго помощника, выполняющего какие-то замысловатые движения, похожие на странные пассы, напоминающие движения из йоги или ушу. Пришлось дождаться окончания всего ритуала и лишь затем зашевелиться, дав понять о готовности к приёмке дел. Коллега как ни в чём не бывало поприветствовал сменщика, пододвинул лежащую на столе бумажку и, прочитав написанное, произнёс:
– Твоя фамилия – Затюга?
Услышав отрицание и настоящую фамилию, добавил, что очень похожа, хотя ни одна буква не совпадала, но его это не смутило. Затем на полном серьёзе сообщил о своём общении с космическим разумом, который и подсказал ему фамилию сменщика, будто она была секретом, служба кадров и капитан её прекрасно знали. В подтверждение своих слов, видимо полагая, что сменщик ему не очень-то и поверил, добавил о недавнем своём предсказании, тем самым подтверждая недавно случившееся в Тайваньском проливе столкновение ББС «Байкальск» с китайским контейнеровозом, в результате которого барже-буксирный состав едва не погиб. Удар форштевня контейнеровоза пришёлся в баржу, а если бы на пару метров ближе к корме, попал бы в корпус буксира и затоплению машинного отделения с последующей гибелью ничто бы не помешало. Особенность конструкции буксира надежд на сохранение плавучести не оставляла. Объяснение сдающего дела второго помощника сводилось к следующему: якобы капитан попросил его поинтересоваться у космического разума, удачной ли окажется сделка в японском порту по приобретению автомобилей. Космос ответил вполне определённо: «Ваши меркантильные интересы – полная ерунда по сравнению с тем, что вас ожидает впереди». Ответ был неопределённый, но настораживающий, в свою очередь порождающий множество дальнейших вопросов, жаль, что вселенское пространство мелочами не занимается.
Изобразив на лице повышенное внимание, дабы не быть уличённым в недоверии или, ещё хуже, в насмехательстве, с трудом сдерживая себя, Вячеслав поинтересовался судьбой судна и получил уверенный ответ: «Всё будет хорошо, не беспокойся». Но всё-таки оба ответа противоречили друг другу, но обращать внимание своего визави на этот парадокс он не стал, дабы не слушать велеречивые объяснения «посвящённого» во вселенские тайны, не что иное, как терять попусту время.
Стало ясно: попал на пароход, на котором трудится человек, у которого не все дома, и никто из окружающих внимания на его фокусы не обращает, что не может не сказываться на эксплуатации своенравного состава, ибо дров наломать можно много. Всё-таки он грузовой помощник, и в его ведении погрузка и соблюдение всех критериев остойчивости, балластировка баржи, от которой и зависит безопасность плавания. Но не возвращаться же обратно, отказываясь от премиальных рейсов, из-за невразумительных объяснений – самого сочтут за полоумного и навсегда поставят на тебе крест, а Японию будешь смотреть только по телевизору. «Назвался груздем – полезай в кузов!» Если капитан и старший помощник относятся столь снисходительно к неадекватному поведению грузового помощника, то и вовсе «не всё спокойно в доме Облонских». Но выбора не было – нужно оставаться и тщательно разбираться во всём хозяйстве.
После гибели ББС «Большерецк» со всем экипажем в феврале 1979 года значительно усилились меры безопасности на баржах-лесовозах. С точки зрения космоса этот год и вовсе стал чемпионом по крупным авариям на море, как будто открылся какой-то невидимый сдерживающий барьер и они хлынули одна пуще другой. Здесь и пожар на дизель-электроходе «Оленёк» в Датских проливах с 25-й Антарктической экспедицией на борту, столкновение двух супертанкеров в Карибском море, повлёкшее разлив 300 тысяч тонн нефти, авария на нефтяной скважине в Мексиканском заливе, столкновение танкера и сухогруза на реке Янцзы с большим разливом нефтепродуктов, из-за которого весь Китай встал на уши. Множество других крупных аварий, и не только на море: в авиационной катастрофе погибла футбольная команда «Пахтакор», в то время крепкий середняк в высшей лиге. По данным адмиралтейской статистики за 1979—1983 годы, в мире погибло по разным причинам 1199 судов, по каждому из которых звонит колокол, набат которого отдаётся эхом во всем мире.
Отдельных слов заслуживает гибель «Большерецка», произошедшая в зимнее время в штормовом Японском море. Из-за замерзания воды балластные танки не были полностью заполнены, в штормовых условиях моря с недостаточной остойчивостью последовал сброс лесного каравана с переворачиванием баржи, за которой последовал и буксир со всем экипажем. Замороженной оказалось и его сцепление с баржей, которое должно было сработать и отсоединиться, но не сработало, что привело к гибели буксира со всем экипажем. Так они болтались днищами вверх, а обнаружили потерпевших крушение японские патрульные самолёты. Из машинного отделения раздавался стук: внутри оказалась воздушная подушка, удерживающая буксир на плаву, в ней находился третий механик, который во время всего трёхдневного пребывания в заточении не сошёл с ума и вёл машинный журнал, записывая все подробности и ощущения. Кстати, уже после гибели журнал засекретили и из содержимого прорывались лишь некоторые сведения, не являвшиеся, по мнению секретоносителей, вредными и опасными. В машинном отделении находились заполненные баллоны с воздухом для запуска двигателя, которые он время от времени потравливал, когда дышать становилось невмоготу. Японцы сразу предложили свою помощь: послать тренированного водолаза-спасателя с запасным аквалангом, который, пробравшись в машинное отделение, передаст его отрезанному от мира третьему механику и выведет его на белый свет.
Но по согласованию с Москвой от помощи капиталистов отказались – «у советских собственная гордость». Решили на наружной стороне днища обозначить выход, предварительно приварив рым, за который можно дёрнуть спасательным судном и вырвать намеченный участок стального листа, открыв отверстие, позволяющее жертве протиснуться через него и вылезти на свет божий. На непрекращающемся волнении по настоянию опытного сварщика надрез производили электродами, и они иногда прожигали стальной лист насквозь – сварщики не были столь искусны, да и качка мешала. Через прожоги сразу же вырывался воздух, но третий механик изнутри тут же затыкал их паклей. Когда подключили газовые горелки, выходящий воздух гасил их, не давая качественно выполнять столь сложную работу. Рым оказался приварен недостаточно прочно и не выдержал рывка, оторвался, а стальной кусок внутри обозначенного периметра полностью не отломился, одна сторона так и осталась в полу оторванном положении, не давая ни малейшей возможности протиснуться наружу. Воздух со свистом вырывался в атмосферу, и буксир на глазах погружался, обречённый на смерть, лишь успел передать машинный журнал, который вёл в последние дни жизни. Страшная мученическая смерть, растянувшаяся на бесконечные трое суток внутри замёрзшей стальной скорлупы. Так и ушёл он на дно, растворившись в кошмаре последних дней с великой тайной пережитого ада. Не что иное, как утопление человека из-за халатности, неразберихи, неграмотности и боязни ослушаться закулисных вершителей судеб, отказавших принять предложенную помощь. Вдове с ребёнком пароходство выделило крохотную гостинку в качестве компенсации за потерю кормильца. Какие-либо комментарии излишни – результат говорит сам за себя. После этого случая перед каждой погрузкой в зимний период в обязательном порядке судовая комиссия в составе старшего помощника, старшего механика, грузового помощника («ревизора») и боцмана должна была проверить и осмотреть все танки на предмет их обмерзания с составлением соответствующего акта. И как последнюю, но надёжную меру ограничили количество груза, скинув 500 кубов, и с этих пор зимняя плановая вместимость составляла 11,5 тысяч кубических метров вместо недавних 12 тысяч.
Ночная вахта старшего помощника, погрузка близится к завершению, наступает самый ответственный момент – не перемудрить с остойчивостью и не утопить зимнюю грузовую марку. Боцман производит замеры балластных танков и вносит результаты в журнал, баржевой механик, была такая должность, производит контрольные откатки из танков, которые должны оставаться пустыми. Тем самым исключая появление забортной воды со свободной поверхностью в судовых резервуарах, дающих значительное уменьшение остойчивости из-за инерционного момента содержащейся жидкости во время качки. Грузовой помощник контролирует осадку и считает остойчивость. Так и должно было быть согласно утвержденной инструкции.
Но факты несколько отличались от прописанных в руководящем документе к обязательному исполнению. Старпом оказался спящим, боцмана и баржевого механика не сыскать и днём с огнём, скорее всего, они тоже дрыхли без задних ног. К своему недоумению Вячеслав обнаруживает предельно допустимую осадку, несмотря на погруженные всего-то 10 тысяч кубов. Впору было протирать глаза, не мерещится ли что-то ниспосланное внешним разумом и в самом деле «не верь глазам своим». Недаром его предшественник выглядел не от мира сего, неужели и в самом деле есть какая-то связь с его «проповедью». Но повторное обследование доказало верность первого, и внешние силы здесь ни при чём, как и надуманная таинственная эзотерика. Медлить было нельзя, а посоветоваться не с кем – народ спал, и как долго понадобится, чтобы добудиться до капитана или старпома – неизвестно, да и упрёков в свой адрес можно наслушаться достаточно, ведь неизвестно, как прореагирует совсем незнакомое начальство. Он и дал команду остановить погрузку, но на неё никто из портовиков не прореагировал, продолжали валить строп за стропом, будто «ревизора» не было. На этом завершающем отрезке погрузки интересы сторон полностью расходятся: докеры и учётчики заинтересованы в максимальном количестве погруженного леса и стараются урвать по максимуму, по своему опыту полагая, едва ли какая посторонняя сила заставит их выгружать лишнее. Ещё бы, ведь они работают совсем не из-за филантропии или миссионерства, а заработная плата напрямую зависит от количества погруженных кубов. Бригадира тоже нигде не видно, скорее всего, посапывает в горизонтальном положении, и снятся ему сверхплановые кубометры и большие премии за ударный труд. Прочих портовых руководителей в округе не наблюдается, ничего иного, как поднимать большой «шухер», не остаётся, да и времени нет на обдумывание дальнейших действий. И вскоре в диспетчерской порта услышали строптивого грузового помощника, настойчивость которого вынудила отправить на причал кого-то из начальства, который по непонятной причине всё ещё находился в помещении, откуда и шло руководство всеми погрузочно-разгрузочными операциями. В конце концов погрузку остановили, но грузовую зимнюю марку уже утопили, и разбор полётов не за горами.



