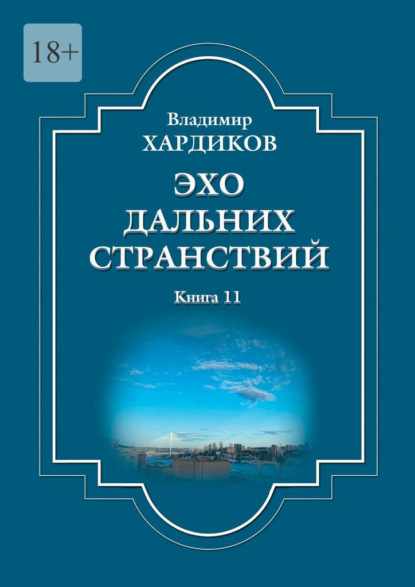
Полная версия:
Эхо дальних странствий. Книга 11
Следующим портом был Ванкувер – столица Британской Колумбии, крупнейший порт Канады на тихоокеанском побережье. Два промежуточных совсем мелких порта, скорее порт-пункта, ничего примечательного собой не представляли, и сожалеть о запрете схода на берег не приходилось, в них погрузили небольшое количество нитрата аммония, относящегося к взрывчатым веществам. Другое дело – Ванкувер! К нему стремились мореходы всех мастей, национальностей и флагов – один из лучших портов для отоваривания, не хуже европейского Антверпена или Лас-Пальмаса, да и посмотреть там есть на что. Во многом привязанность к своему судну объясняется регулярными заходами в порты Сингапура, Гонконга, Японии и конечно, Ванкувер. Но для четвёртого помощника все они мгновенно потеряли своё значение, особенно желанное перед первым заходом в известную гавань, где, помимо товаров широкого потребления, много лишь ему свойственных достопримечательностей. Где ещё можно увидеть гуляющих на свободе хищных пум – только на острове Ванкувер. Своим горем он поделился с коллегой, третьим помощником, тоже выпускником средней мореходки, отработавшим уже десять лет после её окончания, можно сказать «третьим помощником-наставником», жаль, такой должности не существовало. Видавший виды мореход только улыбнулся и посоветовал обратиться к капитану. Но для обострённого чувства справедливости юного начинающего штурмана такое поведение воспринималось как ябедничество, хотя по своей сути ничего общего с этим не имело, и он не последовал совету умудрённого коллеги. Перед заходом в столицу Британской Колумбии капитан поинтересовался у своего младшего помощника, пойдёт ли он смотреть «белочек» (стриптиз). Всё ещё переживающий свой афронт с первым увольнением, Вячеслав воспринял капитанский вопрос как провокацию и сделал вид, что не понял, о чём тот спросил, начал восхищаться всемирно известной достопримечательностью города – парком Стэнли. После чего, тяжело вздыхая, промолвился о лишении увольнения в течение всего рейса. Капитан промолчал, не выказав и тени удивления. Ситуация в корне изменилась, когда сразу же после швартовки в каюту зашёл помполит, заявив о прощении проступка, учитывая его перворазовость. На этот раз в группу подсадил трёх человек: судового врача (30 лет), токаря (56 лет) и электрика (40 лет). Он по-прежнему будет старшим в увеличенной до четырёх человек группе. Увеличение численности групп было связано с недостатком командиров, из-за чего тройки превратились в четвёрки. Ванкувер есть Ванкувер, и рассказывать о его особенностях и достопримечательностях нужно в отдельном повествовании, желающие могут ознакомиться с ними в Википедии. Личные коммерческие интересы экипажа тоже были удовлетворены, и рассказов хватило на несколько дней.
В преддверии ванкуверского увольнения «реабилитированный» четвёртый помощник получил от помполита строжайший инструктаж, смахивающий на последнее китайское предупреждение. Суть его сводилась к строжайшему запрету посещений порнофильмов в кинотеатре или стриптиза в стрип-баре, в противном случае конец морской карьере, загранвизе, конец всему! Таким страшным и безжалостным представлялся он, дабы побольше нагнать страху, с чем явно переборщил. Чем чаще и жёстче звучат повторяемые угрозы, тем большие сомнения в их исполнении появляются у их адресата, но с изучением психологии у «комиссара» были очевидные проблемы, и его действия не выходили из определённых рамок, будучи прямолинейными и однообразными, к которым быстро привыкают.
Пройдя формальные процедуры перед сходом на берег, увольняемые, не успев преодолеть пару сотен метров от причала, в один голос запросились в злачные места. Они уже бывали в городе не раз и хорошо знали, что, где и по чём. 56-летний токарь Рымар Пётр Юрьевич с непререкаемой убеждённостью заверил, что знает бар, в котором вероятность встречи со своими меньше нуля. Более чем убедительная аргументация не вызвала возражений, и вся четвёрка не раздумывая направилась вслед за токарем – специалистом по злачным местам.
Едва успев войти в затемнённый зал, с порога уставились на освещённую сцену. Вячеслав, как старший группы, в отличие от своих подшефных, первым делом оглянулся по сторонам и тут же едва ни лишился чувств. Прямо перед ним у входа за парапетом сидели трое и помполит спиной к нему на расстоянии вытянутой руки, настолько близко, что рука зачесалась от острого желания дать ему щелбана по лысой макушке. Рядом с ним вполоборота старпом, поглощённый созерцанием эротического танца. Третьим оказался капитан-наставник, который смотрел прямо на Вячеслава совершенно безразлично, не выказывая каких-либо эмоций. Чувства, испытываемые Вячеславом в эти секунды, вероятно, можно сравнить лишь с мучениями обречённого, всходящего на Голгофу. Слегка толкнув своих опекаемых, на ватных ногах он попятился и вышел из зала с последовавшими за ним любителями «клубнички». Вот и доверяй после этого безапелляционным утверждениям знатоков местных укромных местечек. Как говаривал когда-то папаша Мюллер, шеф гестапо: «То, что знают двое, знает и свинья!»
После такого потрясения побывали в интересующих местах огромного города, удовлетворив первоначальное любопытство, а по возвращении на судно несколько ранее конца увольнения й помощник доложил партийному блюстителю нравственности о посещении Стэнли-парка. Капитан-наставник оказался настоящим человеком: не только не выдал, но и ни одним жестом не напомнил о той случайной встрече.
Капитан Кабанков Виктор Тимофеевич в начале трудовой деятельности своего четвёртого зелёного помощника на судне неоднократно отстаивал его перед инспектором по кадрам Ардальяновым, который так и норовил направить его куда-то ещё. От этого инспектора-многостаночника, «специалиста во всех областях»: второго помощника, кадровика и даже инструктора разваливающегося парткома – можно было что угодно ожидать. Это уже замечание автора этих строк об Ардальянове, с которым судьба свела на одном судне.
После первого рейса самого младшего помощника на «Павлодар» пришёл подменный экипаж, а штатный в полном составе отправился в отпуск, и вместе с ним недолго поработавший самый молодой штурман. У него не было достаточно накопленных выходных дней, и тем более до первого отпуска ещё не доработал. В летний сезон желающих поработать, особенно в каботаже, где обреталось большинство судов, было днём с огнём не сыскать. По просьбе капитана Кабанкова старший инспектор по штурманам Рябов Юрий Павлович «спрятал» своего протеже в ЖБК (жилищно-бытовая комиссия), а сам убыл в отпуск. Подменяющий его Ардальянов, хотя и был инспектором по радистам, «откопал» Вячеслава и вызвал его в кадры. Инспектор, в ведении которого оказался, сказал прямо и откровенно: «Даже несмотря на настойчивую просьбу капитана, поступить иначе не могу. У меня два десятка заявок на третьего помощника и двадцать две на четвёртого, а ты у меня единственный. Выбирай любой пароход!» Такая вот неслыханная щедрость. К тому времени плавсостав пароходства сильно поредел, многие знающие себе цену мореплаватели ушли на суда иностранных компаний, где заработанная плата, социальные гарантии и продолжительность контрактов были не чета пароходским. За короткое время компания, в которой люди ждали месяцами назначения на любой пароход, превратилась в обычную попрошайку, готовую принимать народ с улицы. Куда подевалась прежняя гордость? Недаром всё познаётся в сравнении! Вячеслав взял паузу и поехал к Кабанкову домой за советом, что тот и сделал, посоветовав «заболеть». Уловка была не нова, и её сразу же раскусили и потом долго «тормозили», вплоть до последнего момента. Весь экипаж уже получил направления на «Павлодар» кроме Вячеслава. У Ардальянова уже имелся помощник капитана с пропиской на судно в паспорте моряка. Будучи в кадрах, совершенно случайно подслушал разговор, вернее, острую перепалку между капитаном и инспектором. Но Кабанков в итоге отстоял своего младшего помощника, за что тот остался навсегда ему благодарен. Кто знает, куда бы повернула судьба, не будь «Павлодара»?
В общей сложности Вячеслав проработал на «Павлодаре» в должностях четвёртого и третьего помощников капитана полтора года. В бананово-лимонном городе одном из самых привлекательных и известных центров отоваривания, куда специально за покупками слетается народ из разных стран и континентов, обычно кратковременные стоянки. В течение одного светлого дня необходимо чётко провести увольнение двумя группами: половина экипажа в одной и вторая половина в другой, не оставлять же судно без присмотра с ведущимися грузовыми операциями. Всем нужно посетить знаменитый малай-базар, где можно приобрести всё необходимое по самым умеренным ценам. Группа первого помощника вернулась на судно немногим раньше других, и, чтобы не терять времени, капитан предложил помполиту временно постоять вахту до возвращения судоводителей, всё-таки по первой специальности он всего лишь два-три года тому назад работал третьим помощником на каком-то пассажирском судне. По некоторым недосказанным намёкам капитана-наставника Ускова корректура карт и пособий, находившаяся в ведении третьего помощника, оказалась в совершенно девственном состоянии, и пришлось менять всю коллекцию в сотни экземпляров, входящих в неё. После чего из-за профессиональной непригодности ему ничего другого, как сменить профессию на менее ответственную, не требующую ничего конкретного, не оставалось. Пришлось срочно переквалифицироваться, но не в управдомы… Идеальная кандидатура для первого помощника, и, конечно, партком не мог пропустить созревшего кандидата на роль партийного наставника. Заказанное капитаном такси ожидало у борта, и он решил захватить с собой Вячеслава. Помполиту нужно было совсем недолго пробыть в качестве вахтенного помощника – остальные помощники капитана должны были вскоре возвратиться на судно. Но реакция представителя руководящей и направляющей партии превзошла все ожидания, оказавшись неожиданной и непредсказуемой. Куда девался его казавшийся неторопливым и степенным стиль поведения: он с пылом и жаром начал отказываться, утверждая о совершенной дисквалификации и неспособности нести даже стояночную вахту. Поэтому пришлось отбросить столь простую идею – не годился человек для конкретных дел, хотя призывать на трудовые подвиги и проводить политику партии в массы вполне способен.
Где-то через пять-шесть лет он дослужился до должности «флагманского помполита» на барже-буксирных составах, где на одного «помпея» приходилось целых три плавающих средства. Их эпоха подходила к концу, и многие, озаботившись будущим, «помягчели». Так и наш герой в одном рейсе на ББС «Байкальск» намеревался в скором времени сменить второго помощника, не просто второго, а Вячеслава, которого судьба снова свела со своим первым крестником. Непонятно, каким образом он сдал аттестацию, но поговаривали, якобы без запинки распознал почти все военно-морские флаги. Правда, совсем непонятно, при чём здесь флаги военно-морского свода сигналов? Скорее всего, в этом звучала скрытая ироническая насмешка по поводу сомнительного появления нового-старого помощника капитана, бывшего помполита.
Май 2025Суета сует
Дай бог, чтоб в гонке за насущным хлебом
Мы не гасили в наших душах свет.
Не забывали любоваться небом,
А остальное – суета сует.
Лариса МиллерСоциалистическое соревнование являлось неотъемлемой частью существования первого в мире государства рабочих и крестьян, а его истоки затерялись в первых годах советской власти. Вполне возможно, оно началось с первого ленинского субботника 1920 года, когда добрый дедушка Ленин нёс знаменитое бревно в компании своих близких единомышленников, и его не менее известной работы «Великий почин». Картина художника Иванова стала классической и широко известной, правда, неизвестно, откуда на территории Кремля взялись брёвна в таком количестве, загадка, которую так никто и не пытался разгадать. Но главное не в этом, а в родном и близком образе гениального вождя, который при всей своей нечеловеческой занятности, как сказал в одноимённой поэме Маяковский: «Он в черепе сотни губерний ворочал, людей носил миллиардов до полутора», успел и на бесплатном субботнике потрудиться, после чего нам сам бог велел последовать его примеру. Позднее, через годы и десятилетия, количество участников переноски легендарного бревна достигло сотен человек, близкое к тысячи, и все они клялись в своей правоте. Помимо чисто пропагандистской направленности, как показало последующее время, в этом явлении «новоявленного мессии народу» скрывалась очень важная деталь, которая даже самому вождю едва ли могла прийти в голову.
Российская промышленность бурно развивалась в последние десять лет, предшествующих Первой мировой войне, в последнем мирном 1913 году рост валового национального продукта увеличился на 19% – это не описка и не ошибка, так было на самом деле. Страна небывалыми темпами догоняла передовые мировые державы и по объёму ВВП вышла на четвёртое место в мире. Казалось бы, ещё чуть-чуть, но вспыхнула мировая бойня, в результате которой прекратили существование четыре несокрушимые империи, совсем недавно считавшиеся вечными стопами на многие сотни лет. Германская – Гогенцоллернов, Австро-Венгерская – Габсбургов, Российская – Романовых и Османская – турецкая, тогда слово «турки» как национальность не было в ходу, оно укоренилось уже после развала от «тюрков», собирательного названия, охватывающего многие народы мусульманского толка Средней Азии.
Успехи успехами, но в основном промышленность развивалась интенсивными мерами – за счёт увеличения мощностей: заводов, фабрик и количества рабочих. Об экстенсивных методах повышения производительности труда мало кто задумывался, понимание этого придёт позднее, в годы первых пятилеток в начале 30-х годов. Производительность труда долгие годы была самым больным местом в российском ведении хозяйства, фактически в три-пять раз отставая от западных стран, хотя после отмены крепостного права Александром Вторым отставание в эффективности труда медленно, но верно сокращалось. Частная собственность делала своё дело, нужно было заботиться о сохранении плодородности почв и улучшении пород скота. Причин отставания в эффективности много, и одна из них представляется наиболее вероятной: так уж повелось исстари, необъятные лесные просторы с редким населением, полные зверья, дикоросов, древесины на любой вкус и полезных ископаемых, не понуждали бороться за их сохранение. Неисчислимые запасы добра казались бесконечными, и не было необходимости заботиться об их восстановлении. В то же время в западных странах наблюдалась иная картина: многочисленное население с ограниченными, довольно скудными территориями и запасами подземных кладовых, как и не столь богатыми лесными массивами, вынуждало заботиться о них, да и крепостного права в нашем понимании не было.
В советское время, начиная с конца 20-х – начала 30-х годов, когда крестьяне и рабочие вместо обещанных партией большевиков земли и фабрик с заводами получили лишь кабалу и полное изъятие частной собственности, даже без Юрьева дня. Их поставили в более худшие условия, чем до отмены крепостного права. Вопрос о повышении производительности труда отпал сам по себе, ибо исчезла какая-либо заинтересованность в результатах труда. Уже позднее появилась всё объясняющая поговорка: «Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем!»
Уткнувшись в тупик, ею же созданный, власть бросила в прорыв всю мощь идеологической машины, тем более оппонентов не было. Тогда и в полной мере развернулась кампания по внедрению социалистического соревнования, которая продолжалась до развала Советского Союза, но каких-либо заметных результатов не дала, превратившись в чисто формальное мероприятие. Вспоминается известная реприза Михаила Жванецкого о спасении едва не утонувшей гражданки Никаноровой. «Они всё делали правильно, но не с той стороны…» Любопытствующие могут поискать в интернете, должна сохраниться.
Морской флот не остался в стороне от повального увлечения, ведь вся страна в «едином порыве», как тогда провозглашалось с высоких трибун, уверенно шагала в социализм, не за горами от которого просматривался коммунизм, последняя и окончательная фаза развития человеческих формаций, по непререкаемому, единственно верному учению, вопреки научно обоснованным канонам об отсутствии чего-либо конечного и абсолютного. Даже астрофизики уже не спорят об абсолютном вакууме, настолько очевидно лишь его чисто символическое значение, ничего общего не имеющее с действительностью. Ведь «Не упрячешь нейтрино за пазуху и не посадишь в пробирку!», как просто высказался Высоцкий об одной из элементарных частиц, которую никто не видел и никогда не увидит, её можно только вычислить. Элементарные частицы, которыми пронизан космос, ничего о вакууме не знают и продолжают свой бесконечный бег, как и много миллиардов лет тому назад.
Пик социалистического соревнования на морском флоте пришёлся на 70-е годы прошлого столетия. Особенно популярным он был на лесовозах «польского происхождения», тогда ещё сравнительно молодых и резвых, со скоростями, указанными в спецификации, с надёжным грузовым устройством и прочными комингсами трюмов. В любом соревновании прежде всего нужны «маяки», на которое должны ориентироваться остальные: «Когда страна быть прикажет героем – у нас героем становится любой!» Маяков тогда не выбирали – их назначали по каким-то неизвестным простым смертным причинам. Стахановское движение произросло во всём своём показном великолепии в довоенные годы сталинских пятилеток. Даже здравый смысл возражает, когда слышит о перевыполнении шахтёрской нормы в 14,5 раза. В этом случае сразу же возникает сомнение, а не были ли нормы липовые или само действо с результатом сильно смахивает на постановку?
В пароходстве соревновались лесовозы, в основном работающие на Японию, и в какой-то мере это придавало соревнованию естественность, ибо все находятся в одинаковых условиях. Но это лишь для тех, кто не в курсе, а при более близком рассмотрении картина прояснялась. Среди всех судов «дровавозов», как их называли на местном бытовом языке, выделялись два лесовоза, всегда перевозящие сверхплановое количество хвойных пород. Этими двумя были теплоходы «Березиналес» и «Электросталь» под водительством капитанов Сахарова и Шимановича. Как такое возможно при лесных перевозках, несведущему объяснить трудно, ведь пароходы не резиновые. Не умаляя заслуг самих капитанов, которые были активны и деятельны, всей душой болея за дело, которым занимались, и подобрали такие же экипажи, всё же было понятно, что-то сильно не договаривается. На самом же деле в основных портах, откуда отправлялся лес, ещё задолго до погрузки проводились подготовительные работы: выбирались вагоны с объёмными стволами, а не какие-нибудь «хлысты», которых много, но кубических метров мало. На сортировке тяжелые сорта лиственницы отправлялись в трюмы, а более лёгкие сосна и ель – на палубу, ибо от такого расклада напрямую зависела остойчивость, грузить на сотни кубометров больше, чем при обычной неразберихе. Обеспечить такие условия погрузки всем просто невозможно, а для двоих очень даже. Если же по той или иной причине этим пароходам приходилось грузиться в северных порт-пунктах: Ольга, Пластун, Кема и иже с ними, – то тепличных условий там создать не могли и количество перевозимого груза ничем не отличалось от обычных лесовозов-близнецов, подрывая авторитет новаторов-передовиков. Поэтому их старались не направлять в подобные порт-пункты. Оба капитана были обласканы руководством и парткомом, их имена звучали везде: в печати, на собраниях, фотографии висели на досках почёта. Не обходили их и награды, пока дело не дошло до самой главной – Героя Социалистического Труда. В то игольное ушко протиснуться вдвоём было невозможно: высокие звания жёстко квотировались, и получить наивысшую государственную награду было совсем непросто, даже при поддержке самого громадного предприятия. Не вдаваясь в подробности, звание Героя досталось капитану «Березинылес» Сахарову, оставив Шимановича с носом, ибо обычные ордена уже не устраивали. Неизвестно, чем был продиктован такой выбор, хотя очень даже вероятно: причиной являлась фамилия, ксенофобии как таковой в 40-х – начале 50-х годов не было, но люди оставались прежними, и она глубоко запряталась в их души. Возможно, поэтому Шимановичу ничего не светило, несмотря на то что он ни в чём не уступал своему сопернику. В советских анекдотах того времени к фамилии Сахаров отношение тоже было совсем неоднозначное: «Сахаров – Сахаровский – Сахаревич – Цукерман!» Но в нашем случае этот намёк был всего лишь совпадением, позднее один из контейнеровозов получит имя «Капитан Сахаров».
Попытки других уязвлённых лесовозов приблизиться к «маякам» оказывались тщетными, слишком не равными были условия. Более того, гонка за рекордами наверняка принесла лишь убытки, правда, никем не подсчитанные и широко не афишировавшиеся. Сбрасывания лесных палубных караванов из-за потери остойчивости случались совсем не редко, а тысячи выброшенных в море брёвен ещё долго носило по воле волн и ветров, грозя неприятностями для встречных судов, ибо заметить их среди пляшущих волн даже в солнечный день было проблематично, а если замечали, то поздно и отвернуть не успевали. Помимо того, караваны уходили за борт, унося с собой часть фальшборта и бортовой обшивки, вскрывая трюмы, как консервный нож банку, а экипажам оставалось лишь бороться за собственную безопасность, дабы не уйти на дно вместе с пароходом.
Время шло, и трудяги-лесовозы, отработав свой срок, один за другим списывались и уходили на разделку металлолома, на «гвозди», а иные, которые покрепче, путём различных махинаций продавались, вернее передавались, по цене металлолома, а иногда и бесплатно совместным предприятиям, которые вскоре исчезали так же, как и появлялись. Частные компании возникали как грибы после дождя, и зачастую суда оказывались у них, они ещё послужат на благо новых хозяев.
К 1996 году в составе сильно усохшего пароходства из всей большой серии лесовозов остался лишь один как памятник ушедшим временам. Это была «Электросталь», сохранившаяся лишь благодаря своему почти бессменному капитану Шимановичу, который относился к судну как к своему любимому детищу и всячески лелеял его.
Тогда и получил направление на единственного оставшегося ветерана лесных перевозок старший помощник Вячеслав Корчун. Шимановича уже давно не было на судне, возраст взял своё, и он навсегда расстался со своим любимцем, а вместе с ним с львиной долей активной и счастливой жизни, в которой всего хватало и было что вспомнить. По большей части память сохраняет жизненные поступки, которыми можно гордиться, когда испытывал благословенные моменты, и они навсегда остаются с тобой наедине, являясь плодородным основанием твоего последующего бытия. Человек молодеет, уходя воспоминаниями в такие минуты былой жизни, и чем их больше, тем дольше он сохраняет бодрый настрой, не обращающий внимания на возникающие неурядицы и проблемы, по сути дела тем самым продлевая жизнь. Позитивное к ней отношение с возрастом приобретает всё большее значение, влияющее на качество и продолжительность.
При приёмке дел у прежнего старпома выяснилось: совсем недавно судно прошло ежегодное освидетельствование инспекторами классификационного общества Российского регистра судоходства, но незакрытыми оставались два замечания, требующие повторного вызова инспекторов. Предъявить систему осушения льяльных колодцев трюмов и грузового устройства было совсем не просто: первая являлась самой настоящей головной болью механиков, а второе за всю многолетнюю жизнь справилось со многими сотнями тысяч, если не миллионами, кубических метров леса, и не только его, сильно поизносившись за долголетнее существование. Но всё-таки ежегодное предъявление не чета предъявлению на класс с разбором всех деталей, а лишь внешний осмотр или что-нибудь более существенное по выбору инспектора.
Первый рейс с самого начала походил на полосу испытаний для нового старпома, в основном из-за присутствия на борту высокопоставленных навигаторов (судоводителей). Возглавлял такое сообщество заместитель начальника пароходства по мореплаванию Сидоренко, оформивший себе командировку, но фактически отправившийся в рейс за покупкой подержанного авто, а компанию ему составляли два пассажира – оба капитаны, с той же целью. Какая может быть цель командировки у главного морского начальника на стареньком лесовозе в обычный японский порт, специализирующийся на выгрузке леса, подальше от больших городов Страны восходящего солнца?
Последним самостоятельным и уважаемым замом по мореплаванию в компании был Сан Саныч Кашура, а после него на этом посту обосновались фигуры совсем не того масштаба, скорее всего парткомовские выдвиженцы, и Сидоренко ничем не отличался от этого племени. Был он трусоват, всячески избегая самостоятельных решений, оглядываясь на начальника и его давно сформировавшихся ближайших помощников, отчего служба много потеряла и уже не являлась ведущей, следуя в кильватере управленческих решений. Капитаны-наставники почти в открытую выражали своё недовольство, не считая своего номинального шефа достойным авторитетом. Он, конечно, понимал ситуацию, но старался вести свою линию, лавируя между Сциллой и Харибдой, хотя и выглядело это не совсем убедительно для большого, полноватого, рыхлого человека с широким лицом. По слухам, до этого он работал капитаном на одном из пассажирских судов. К тому же на фоне начальника службы безопасности мореплавания Мазура Михаила Петровича он выглядел откровенно слабо, и, сдаётся, понимал это. Касательно Сидоренко комментарий автора этих строк.



