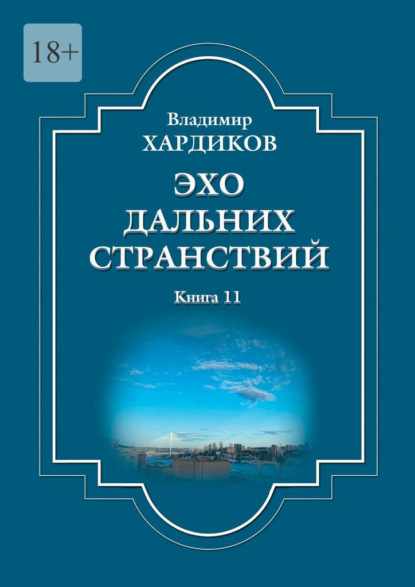
Полная версия:
Эхо дальних странствий. Книга 11
У Вячеслава ещё задолго до случившейся встречи с замом на «Электростали», где он находился при исполнении служебных обязанностей, с боссом не заладились личные отношения. Произошло это, казалось бы, из-за не такого уж серьёзного случая, никак не относящегося к поведению Сидоренко, а скорее к финансово-валютному отделу. Для излечения младшего сына потребовалось срочное хирургическое вмешательство, ибо в России подобные операции не делали, но её успешно провели в японской клинике. Времена изменились, и теперь уже не было строжайших запретительных мер по обращению в иностранные клиники за медицинской помощью, хотя управленцы смотрели на это по-прежнему косо, не разражаясь открытым недовольством и не требуя вернуть затраченную на лечение валюту. Кстати, японский лечащий врач во время визита во Владивосток на банкете, устроенном на пароме «Русь», недвусмысленно намекнул о реальной помощи лишь двоим пациентам с пороками сердца, включая Корчуна-младшего, а остальные были с несерьёзными проблемами, которые легко можно было решить во Владивостоке. Изо всех обращений выделялся единственный случай, когда мёртвых не лечат. Одному ребёнку на всём пути из Японии старались «запустить сердце», чтобы бы довезти. И только во Владивостоке почерневшие от горя родители попросили прекратить издеваться на мёртвым тельцем.
Раз уж коснулись японских стационарных медицинских учреждений, стоит упомянуть имевший место случай с преподавателем ДВВИМУ Александром Сергеевичем, не Грибоедовым и не Пушкиным, просто их полным тёзкой. Интересен случившийся конфуз, возникший на пустом месте более 30 лет тому назад. У Вячеслава сложились с преподавателем информатики в начале 90-х годов доверительные отношения на почве настройки первого приобретённого для сына, ученика математического класса, компьютера. В качестве руководителя практики Александр Сергеевич бороздил морские просторы с группой курсантов на учебно-производственном судне. Надо же было случиться: один из курсантов заболел, и состояние его только ухудшалось, судовой врач оказался бессильным и даже не смог поставить верный диагноз. Под угрозой оказалась сама жизнь, и волей-неволей, несмотря на крайнее нежелание руководства отнюдь не богатого учебного заведения, пришлось обращаться за медицинской помощью в провинциальную лечебницу в небольшом, редко посещаемом судами японском порту. У руководителя практики не было иного выхода, как остаться вместе с больным в качестве переводчика и одновременно надзирателя, не оставлять же курсанта один на один с возможными провокациями, не часто представители северных соседей помещаются в медицинские стационары Страны восходящего солнца. По правде сказать, переводчик с японского языка из него был никакой, кроме нескольких обиходных слов в багаже ничего не было. Общение, как часто бывает, проходило при помощи жестикуляций и мимики. Человеку в этом повезло – у него имеются лицевые мышцы, в отличие от остальных животных, и он может выражать свои чувства при их помощи вполне доходчиво. Госпиталь располагался довольно далеко от порта, скорее всего там, где начинается настоящая, не европеизированная Япония, где ещё глубоки давние народные традиции, которых в своём большинстве придерживаются жители небольших глубинных городков и селений. Представитель агентирующей компании поселил Александра Сергеевича в единственную гостиницу, ориентированную на коренных жителей Страны восходящего солнца. Комната не отличалась обилием мебели, из которой в наличии была циновка и деревянный брусок, обёрнутый тканью, использующийся в качестве подушки. Впрочем, назвать мебелью или даже постельными принадлежностями такое спальное изобилие язык не поворачивался. Обычная, ничем не отличающаяся от остальных подобных временных обителей сынов богини Аматэрасу более чем тридцатилетней давности.
Не владея японским языком, преподаватель лишь догадывался кое о чём, присутствуя во время разговора агента с администратором на стойке регистрации. Однажды вечером, спасаясь от удушающей дневной духоты и безделия, выбрался из своего временного убежища подышать посвежевшим воздухом, присев на находящуюся поблизости лавочку. Появление «эбису», как японцы называли европейских варваров-иноземцев в XIX веке, всегда привлекало к себе внимание местных жителей в небольших городках, где они встречались очень редко. Рядом отдыхал средних лет японец, немного говорящий по-английски: слово за слово – и понемногу разговорились. Александра Сергеевича очень интересовали бытовые условия проживания японцев в гостиницах и в домашних условиях. После знакомства с жёсткой циновкой на полу гостиничного номера его очень заинтересовал этот вопрос. В результате после долгих объяснений душа успокоилась: собеседник пояснил – условия обычные для японцев, такие же и в домашних условиях. Будучи знаком с европейским укладом, он решил немного поюморить, тем самым скрасив некоторое недоумение преподавателя: якобы спит на женщине. Шутка не удалась, да и поверить в это невозможно – сам приравнял себя к бесчувственному полену. Хотя японский юмор очень оригинален и не всегда понимаем европейцами. Впрочем, Александру Сергеевичу такой вариант предлагался при вселении. Едва ли он мог согласиться на это – прежде всего против восставала первая заповедь: «Запомни, изменяя мне, ты изменяешь всей стране!» Параграф из Устава российского императора Николая Первого первой половины XIX века через сотню лет приобрёл совершенно иной смысл. Вот если бы не всей стране – тогда можно было бы и озаботиться, но против страны никак не потянешь – от одной мысли станет плохо. Вторая причина не такая критическая, а чисто климатическая: жара и духота.
Такова была прелюдия, которая вскоре забылась и едва ли когда в будущем могла быть востребована, но неожиданности иногда случаются, появляясь в непредсказуемом виде через большие промежутки времени. После чего непременно задумываешься: в самом ли деле всякая информация полезна и не навредит ли она в будущем – попробуй разберись, самому Мишелю Нострадамусу с его катренами едва ли под силу такие загадки.
Прошёл год или два, Александр Сергеевич выступал в привычной ипостаси: руководил плавательской практикой группы курсантов на одном из научно-исследовательских судов (НИС) Академии наук. Её флот в советские времена был крупнейшим в мире, проводя не только одни лишь исследования в мирных целях. Однажды совершенно неожиданно для себя капитан получил указание руководства принять на борт группу учёных японцев высокого уровня. Никогда прежде ему не приходилось сталкиваться с подобным явлением в течение всей своей морской карьеры. Оно поставило его в тупик, и в голове, как молоточком, стучал риторический вопрос: «Что делать?», на который пытались ответить многие гиганты мысли, исключая гротесковую фигуру отца русской демократии Кисы Воробьянинова. А тут целая группа иностранцев, и к тому же японцев с их своеобразными обычаями, во многом отличными от европейских. Естественно, он развил бурную деятельность среди экипажа по поиску людей, имевших какие-либо контакты с японцами. Александр Сергеевич также оказался в сфере его интересов, а когда капитан узнал о довольно продолжительном «заточении» в японской больнице, то и вовсе признал в нём неоспоримого авторитета. Преподаватель понял, что наболтал слишком много и путь к отступлению отрезан, пришлось выступать в роли главного консультанта по встрече и размещению японских учёных. У него навсегда остался в памяти разговор с тем японцем на лавочке, подтверждённый его собственным обитанием в рядовой гостинице. Если во многих вещах у него были сомнения, то в этом вопросе колебаний не возникало – он уверился в своей правоте, ещё бы, первостепенный свидетель подтверждал её. После разговора с капитаном о неприхотливости гостей, в чём «мастер» сильно засомневался, он и предложил вынести всю мебель из кают, оставив только матрац на полу и подобие подушки, благо судно имело достаточное количество кают, предназначенных для учёного персонала. В итоге гостей встретили со всем радушием, насколько позволяла судовая обстановка. К удивлению капитана, скудная обстановка кают не вызвала с их стороны никаких нареканий. В первые дни всё вошло в нормальный рабочий ритм, и ничто не предвещало скорой грозы. Но однажды, находясь в капитанской каюте за обеденным столом, руководитель группы учёных несколько раз выходил в туалет. Капитан, видя столь существенное неудобство, по доброте душевной предложил пользоваться своим личным туалетом, для чего нужно было пройти через спальню. И тут сразу же после первого посещения гром грянул, нужно было видеть разгневанное лицо японца, хотя нация склонна к врождённой сдержанности, и чтобы вывести из себя настоящего «самурая», нужно сильно постараться. К тому же гости изрядно поколесили по миру и хорошо были знакомы с укладом жизни «эбису». Гнев вызвало капитанское ложе, никоим образом не совместимое с циновкой на полу. Он воспринял это как личное оскорбление, хорошо, не предложил поединок чести на нунчаках или ещё на каком-нибудь ином японском экзотическом оружии. Скандал разразился нешуточный, стоило многих трудов, дабы объяснить японцам причину происшедшего, сославшись на незнание современного гостеприимства по-японски. После более-менее урегулирования конфликта, хотя бы внешне, ибо японцы навряд ли простили таковое отношение к себе, буря понемногу улеглась, но отношения уже нельзя было назвать добросердечными. Ведь если бы капитан спал в таких же условиях, как они, никаких противоречий возникнуть не могло бы.
Больше всех досталось главному консультанту по знанию японского быта преподавателю ДВВИМУ: упрёки, сдобренные крепкими словечками, сыпались в его адрес бурным потоком, а ему нечего было сказать в своё оправдание. Действительно, как в старой доброй пословице, язык оказался врагом, приведшим к почти непоправимым последствиям. В потомках «самураев» течёт кровь их предков, и лучше не будоражить её. Но то, что произошло, уже произошло, а отметина о том случае навсегда осталась в памяти всех участников и свидетелей. «Все дороги в ад выстланы благими намерениями!» – гласит фраза, известная ещё с XVIII века.
Слишком мы отвлеклись от основной канвы повествования, пора возвращаться, хотя упомянутый эпизод и есть не что иное, как суета сует. В начале 90-х годов пароходство начало переводить некоторые суда под иностранные флаги, тем самым значительно уменьшая налоговую базу, при которой само наличие флота без поддержки государства становится нерентабельным и бессмысленным, чреватым банкротством для акционированных компаний и частных судовладельцев. Согласно международной конвенции по оплате труда, заработная плата в рублях таковой не признавалась, как количественно, так и качественно, и при любой проверке в инпортах пароход могли запросто арестовать и продержать в таком состоянии до полного решения вопроса в соответствии с требованиями конвенции. Кроме крупных убытков из-за простоя, неизбежна потеря деловой репутации и позор на весь мир, да и потенциальные фрахтователи будут шугаться как черти от ладана. Тогда и вынуждены были перейти на неслыханную в советском государстве заработанную плату в валюте, которая составляла не более 15—20% от мореплавателей иностранных компаний, работавших на аналогичных судах. Впрочем, это являлось большим секретом и никому не сообщалось. Но неизбалованные отечественные мореплаватели и этому были чрезвычайно рады, ибо обесценивающийся на глазах рубль превращался в фантики, интересные лишь для школьников младших классов. Прецедент по валюте был уже создан немногим ранее: на оперируемых пароходством бербоутных судах «Совкомфлота» под кипрским флагом первичный оклад капитана составлял 880 долларов в месяц, что позволяло судить и об остальных, значительно меньших. Судя по всему, финансисты «Совкомфлота», через которых проходила оплата экипажей, значительную часть причитающейся зелёной валюты оставляли в компании, может быть, чтобы не травмировать неслыханными богатствами хрупкие души мореплавателей. Но даже для того времени сумма была незначительной, и сравнивать её с аналогичными окладами иностранцев не приходилось, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», говоря словами Николая Островского, автора советского классического патриотического романа для нескольких поколений молодёжи «Как закалялась сталь». Вдобавок ко всему как-то неопределённо добавлялась возможность пользоваться за границей рядом услуг, включая медицинское обслуживание. Первое обращение Корчуна-младшего не вызвало никаких нареканий и прошло без сучка и задоринки. Но в истории болезни предусматривалось вторичное обследование через шесть месяцев, дабы исключить вероятность рецидива, что и стало камнем раздора. Мышление руководства осталось на прежнем уровне, когда обращение за медицинской помощью за границей было недопустимо. Хотя вроде бы всё изменилось, но отношение к обращению осталось прежним, и если в первый раз не вызвало нареканий, то вторичное, согласно предписанию клиники, вызвало негодование типа «совсем обнаглели». Формально процедура направления сводилась к заключению некой комиссии, кстати, никого от медицины в ней не было, основанием чего являлось «чьих ты будешь?». Ранее существовал так называемый «Совет трудового коллектива», – чисто профсоюзная формальная организация, – который почил в бозе после известных событий. Вышеназванная комиссия и состояла при нём, и её членом был Сидоренко, к тому же председатель несуществующего «Совета». Стандартные бланки изготовили, не жалея бумаги, с фамилией самого председателя на много лет вперёд, но въевшийся формализм нуждался в его подписи, хотя такой общественной должности давно не существовало. Но «плевать», как написано, так и следует поступать. Тут уже Сидоренко решил показать свою принципиальность и независимость, наотрез отказавшись подписывать заполненный бланк, добавив очевидную глупость: «Лично сам готов убедить начальника пароходства в отсутствии необходимости отправлять на повторное обследование». Такое вот взошедшее медицинское светило, молчал бы лучше, глядишь, и за умного сошёл бы. Но тем не менее подпись шефа всё-таки была получена по другим каналам, что сильно задело главного морского начальника, и он запомнил это надолго. Как-никак, от него зависело многое, включая продвижение по служебной лестнице, да и подножку по любому случаю мог шутя подставить.
Первым делом зам напомнил о себе как о высоком начальстве, потребовав принести ему для ознакомления судовые документы, находящиеся у «чифа», что Вячеслав и сделал. Через некоторое время он вернул их обратно, не проронив ни слова, даже не поинтересовался незакрытыми замечаниями Регистра, ведь в случае их неисполнения судно автоматически лишается свидетельства о годности к плаванию и никакой портовый надзор в море не выпустит. Заму нужно было показать какую-либо активность, мало-мальски смахивающую на командировку, хотя и ежу было ясна цель его вояжа, может быть, он прежде всего искал оправдание для самого себя? Учитывая определённые навыки в знании японского языка, старшему помощнику поручили оказать максимальное содействие столь высокому «пассажиру», хотя и командировочному, кто он на самом деле, сам бог не разберёт, в приобретении главной цели его нахождения на судне – японского автомобиля. В итоге зам остался очень доволен, приобретя самую престижную японскую марку представительского класса «Toyota Crown», не ездить же ему на какой-то заурядной «Toyota Corolla», как обычному матросу, вдобавок к которой стал обладателем запасного комплекта шин как подарка Вячеслава. Похоже, его неблагожелательность к старпому получила полное удовлетворение и прощение.
С прибытием в Находку «чиф» напомнил капитану о необходимости пригласить инспектора Регистра для закрытия «висящих» замечаний. Но тот лишь отмахнулся: «Давай попозже, в следующий раз». Зачем ему понадобилось тянуть время, постепенно загоняя себя в угол, лишая временного пространства для манёвра – неизвестно. А вдруг инспектор вновь не примет вроде бы устранённые замечания, найдя что-либо предосудительное, и тогда уже не останется времени на их исправление, пароход ожидает банальный простой, мимо которого руководство не пройдёт, раздав всем сёстрам по серьгам. В следующий раз капитан ответил так же непонятно, почему он избрал такую тактику – прятать голову в песок, не помышляя о приближающейся красной черте, тем более приглашение инспектора его ничуть не напрягало – заниматься-то с ним будут старпом со стармехом, – оставляло всё больше вопросов. Оставался последний, предельный шанс, после которого неизвестность. Всё же старший помощник отправил заявку на местный филиал Регистра с приглашением прибыть в определённую дату к конкретному времени для принятия устранений ранее предъявленных замечаний. Вскоре всё и разрешилось, оказалось намного проще, чем казалось: прибыл штатный капитан, при котором и возникла настоящая заварушка. Подменный «мастер» собрал вещички и в тот же день укатил во Владивосток, он тянул до последнего, вернув ситуацию на круги своя: «Твой пароход, ты и разбирайся, не я начинал ежегодное освидетельствование, не мне его и заканчивать!» Штатный капитан тоже был не промах – едва успев принять судно, тут же укатил обратно, перепоручив все дела старшему помощнику, включая и предъявление инспектору Регистра. Нельзя не поразиться его лёгкости и умению распорядиться в конкретной ситуации, совершенно не заморачиваясь на деталях. Помнится, много лет до этого эпизода один известный капитан на робкую просьбу старшего помощника отпустить его на пару дней домой ответил: «Станешь капитаном, тогда и будешь ездить, а пока терпи!» Такова «сермяжная правда» жизни – нравится она кому-то или нет.
На удивление грузовое устройство предъявили без каких-либо препятствий, можно сказать, в автоматическом режиме, хотя оно вызывало нешуточные опасения. Напротив, с осушением трюмов пришлось повозиться, но с божьей помощью и исступленным желанием механиков с грехом пополам предъявили, и требования были закрыты. Отныне исчез незримый груз, висящий на сердце, с которым приходилось засыпать и вставать. Инспектор забрал все судовые документы и на следующий день вернул с уже закрытыми замечаниями: «Мавр своё дело сделал, мавр может уходить!», фраза, ставшая крылатым выражением, из пьесы Фридриха Шиллера, которую часто приписывают Уильяму Шекспиру, имея в виду главного героя его знаменитой пьесы «Отелло».
На этом истории и занятные случаи с судовыми документами не кончаются. Если для человека первым документом, удостоверяющим его личность, является «Свидетельство о рождении», впоследствии являющееся основанием для выдачи паспорта, то для парохода, находящегося в эксплуатации, количество жизненно важных документов насчитывает несколько десятков. Все они требуют тщательного их учёта, в таком количестве не мудрено какому-то листку и затеряться – ищи потом ветра в поле. Отдельного бдения заслуживает срок действия, ибо стоит какой-либо из них пропустить либо просто недосмотреть – и поминай как звали, проблем не оберёшься: простой лишь одного дня обходится судовладельцу никак не менее 5 тысяч зелёной валюты. Но несмотря на тщательность и пристальное внимание, случаются самые настоящие казусы, и, считайте, вам крупно повезло, если они обходятся без последствий.
По существующей в последние годы традиции, когда из-за возраста на «последнем из могикан» сняли ледовый класс ввиду изношенности корпуса за долгие годы, теплоход «Электросталь» в период летней навигации осуществлял завоз угля из шахты Беринговской в столичный город Анадырь, ибо Арктика ему была противопоказана. Шахта в Беринговском снабжала углём всю Чукотку: угольные терриконы накапливались и росли в Анадыре и Эгвекиноте, разнося пыль и грязь на километры вокруг, уничтожая и без того скудную растительность и идущие на нерест косяки лососей, а уже оттуда по зимникам уголь развозили по стойбищам и иным малым населённым пунктам, впрочем, крупных на Чукотке не было. Накапливающийся в чёрных островерхих конусах уголь полоскали дожди, а зимой заметала вьюга с пронизывающим ветром и лютыми морозами. Нижние слои, завезённые много лет тому назад, потеряли своё драгоценное качество, превратившись в обычную сопровождающую породу, но планов «громадьё» должно выполняться, не подвергаясь сомнениям. Такая же судьба ожидала и более «возвышенные» пласты. С развалом страны и переходом предприятий в частные руки многие из них стали нерентабельными без государственной поддержки, и они закрывались одно за другим. В первую очередь беда коснулась российских северов, ибо люди ехали сюда, чтобы заработать, а потом обосноваться где-то поюжнее: в Краснодарском крае, Ростовской области, на Украине или, на худой конец, в средней полосе России. Порой бросали свои квартиры, ибо продать даже по минимальной цене не удавалось, так и зияли брошенные жилища тёмными глазницами выбитых окон, как бы взывая к милосердию исчезнувших хозяев, которым было не до них, жизнь и выживание всей семьи стояли на кону. Несмотря на очевидную бесперспективность, никому не нужный уголь продолжали завозить в прежних объёмах, бездумно расходуя и без того скудные ресурсы. «Привычка – вторая натура» – гласит известный афоризм, оправдывая сизифов труд во время коллапса всей страны, но для большинства людей ещё не доходил весь ужас надвигающейся беды, и они продолжали вкалывать. Детей-то кормить чем-то нужно, да и цены улетали в поднебесье, публичных патриотических лозунгов заметно поубавилось, о них напоминали лишь старые, изрядно потрёпанные плакаты с остатками растяжек на стенах. Откровенными насмешками и издевательствами читались потускневшие и скособоченные на них аксиомы уходящей эпохи: «Наша цель – коммунизм!», «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи!», «Слава Коммунистической партии Советского Союза!» и множество других, количество которых не поддаётся счёту. Даже при полном фиаско продолжается самовосхваление – такие уничижительные казусы как награду за содеянный эксперимент над собственным народом подбрасывает сама судьба.
Когда лесовозов было побольше, они и использовались во время летней навигации для накапливания угля в основных накопительных пунктах Южной Чукотки: Анадыре и Эгвекиноте, ибо их трюмы, не обременённые твиндечными перекрытиями, подходили к угольным перевозкам, как никакие иные. Но в последние годы остался лишь один «долгожитель», и выбора не было – в летнее время Анадырь для него был заранее забронирован. Этим летом всё пошло по прежнему сценарию, и тёзка подмосковного города, обязанного столь промышленным названием изготовлению вооружений на электрометаллургическом заводе ещё в дореволюционном 1916 году, «что бы ученые ни изобретали – в любом случае получается оружие», – готовился к предстоящему заплыву. Качество которого во многом определяет грузовое устройство, ибо рейдовая погрузка в бухте Угольной с угольных барж на постоянном волнении, идущем с востока, не самое лучшее занятие для грузовой оснастки. Берингово море как часть Тихого океана никогда не остаётся спокойным и даже в безветренную погоду напоминает о себе дыханием вечного океана – живая и мёртвая зыбь выполняют свою работу без отдыха, без праздников, выходных и перекуров – бесконечные ненормированные рабочие дни.
В процессе подготовки к северному рейсу, из которого ранее октября пароход не вернётся, судно посетил капитан-наставник Геннадий Кобцев, сын которого трудился на нём же третьим помощником капитана. Просматривая судовые документы, внимание наставника привлекло «Свидетельство на перевозку опасных грузов», в котором в графе ежегодного освидетельствования, как и следовало, печать Регистра и дата проверки были в наличии, но подпись исполнителя отсутствовала. Как-никак, а уголь относится к опасным грузам, недаром он является значительным компонентом при производстве различных порохов и ряда взрывчатых веществ, об угольной пыли и говорить не приходиться – она по потенциальной опасности ненамного уступает парам бензина, и возможный взрыв зависит только от её концентрации в воздухе. В закрытом помещении трюма, хотя и вентилируемом, она опасна вдвойне. Конфуз получился нешуточный, хуже, чем в известной поговорке: «На охоту ехать – собак кормить», ибо выходило: судно, целевым назначением направляемое на многомесячные перевозки угля, не имело разрешения для его перевозки. Проблема касалась не только компании, но приобретала российский размах: оставить без основного топлива всю Чукотку во времена всеобщей пертурбации в стране – равнозначно поднести горящий фитиль к терриконам взрывчатки, эхо от взрыва может полыхнуть по всей стране и вызвать непредсказуемые и необратимые катаклизмы. По роковому стечению обстоятельств подпись инспектора была короткой, почти закорючкой, а место, где она должна была находиться, закрыто печатью. Как выяснилось позднее, инспектора хорошо угостили, можно сказать, несколько переборщили, и у того возникли некоторые проблемы с адекватностью. Предварительно проставили даты на всех документах, скрепив их его же печатью, но инспектор, несмотря на принятые меры, оказался несговорчивым и осушительную систему не принял. Получилось как в пословице «Не в коня корм!», а если проще: напрасно поили и кормили, может быть, и вовсе не стоило, или же нужно было добавить «зелья» без кормёжки, чтобы миновать состояние агрессивности – остаётся только гадать, как вышло бы в ином исполнении. Вдобавок ко всему несговорчивый инспектор выдал акт об актуальности предыдущего замечания, и таким образом «остались при своих» интересах с незакрытым требованием. Несмотря на прилично принятую дозу, привыкший к подобному обращению инспектор на заборах не расписывался, а тут ещё самый возрастной пароход, оставшийся от большой серии польских близнецов, не мог внушить какой-либо уверенности в его дальнейшем безаварийном плавании в «не столь отдалённых» краях. Про соответствующий акт все давно забыли, но он должен был храниться у старшего механика, который после этого перерыл всю каюту, пока не нашёл, к вящей радости, своей и командного состава. Остальное казалось делом техники: отправляем третьего помощника в отделение Регистра, предъявляем акт находкинского инспектора и получаем заключение, снимающее висящее требование. Дело-то происходило во Владивостоке, и к тому времени Регистр уже не зависел от пароходства и прежнего «сотрудничества» не было – каждый выживал в одиночку. К тому же владивостокский филиал классификационного общества Регистра являлся региональным центром, то есть его находкинское отделение было подчинённым. В итоге владивостокский надзорный орган решил самостоятельно разобраться в странно создавшейся ситуации, направив собственного инспектора, да и каждое приглашение совсем не бесплатное, когда уже не существовало государственной поддержки и средства на собственное житьё-бытьё Регистр морского судоходства должен был зарабатывать сам. А если у вас на корме развевается трёхцветный российский колер, то никуда от нас не денетесь – платить будете по нашим ставкам.



