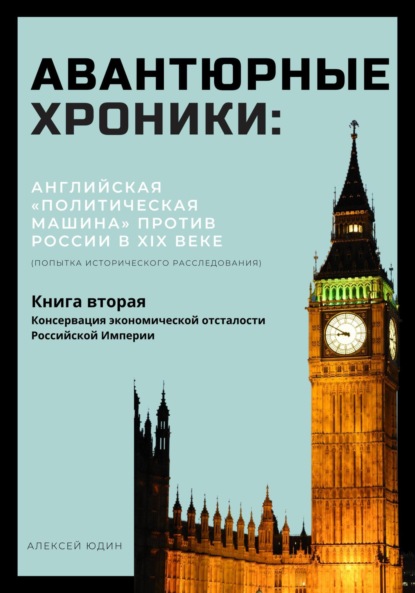
Полная версия:
Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
Таково в общих чертах было состояние «хозяйства» России к моменту восшествия на престол молодого императора, хотя вряд ли он обладал видением всей картины в целом и, скорее всего, не представлял даже приблизительно масштаб и сложность свалившихся на него забот. Александр Павлович имел обыкновение обсуждать со своими молодыми друзьями «проекты государственного переустройства», но готового плана действий не имел – все предстояло глубоко изучить и обдумать. Однако прежде надо было сделать неотложное.
Первые шаги императора Александра I
Первым делом Александр Павлович незамедлительно отправил курьеров перехватить и отозвать из индийского похода казачий отряд атамана Василия Орлова, который к концу марта 1801 года уже успел переправиться через Волгу в районе Саратова. Александр Павлович, декларируя таким образом отказ от вмешательства в чужеземные дела, по своему обыкновению лукавил. Это был жест, призванный сигнализировать Лондону о желании молодого императора восстановить разорванные Павлом Петровичем дипломатические отношения. На другой день после убийства отца Александр I поручил графу Петру Палену составить инструкцию для Семена Романовича Воронцова, бывшего посла в Лондоне. Покойный император отправил Воронцова в отставку в конце 1800 года «за недоплату казне денег лондонскими банкирами по субсидной конвенции». Бывший посол не пожелал возвращаться в Россию и продолжал жить где-то в пригородах английской столицы. В Петербурге было хорошо известно о том, что за долгие годы пребывания в Лондоне Семен Романович «вконец обангличанился». Молодой император не посчитал это обстоятельство помехой и повелел Палену первым пунктом инструкции восстановить Воронцова в должности. Извещая далее посла о постигшем Россию несчастье, Пален писал, что государь поставил себе целью возродить прежние дружеские отношения с Англией и будет содействовать этому всеми ему доступными средствами. В качестве жеста доброй воли император приказал незамедлительно прекратить иски против английских купцов и моряков на территории России, предъявленные им при покойном императоре. Единственное требование Александра Павловича касалось Морской конвенции о вооруженном нейтралитете, заключенной еще при покойном императоре между Россией, Швецией, Данией и Пруссией. В знак уважения к памяти отца он требовал, чтобы правительство Британии признало эту конвенцию.
Воронцов был рад, что после непродолжительной павловской опалы его вновь призвали на дипломатическую службу. Он был доволен и тем, что ему предстояло заняться восстановлением отношений между Россией и Англией – «вторым его отчеством»239. Однако поручение заявить позицию Александра в отношении конвенции северных держав о вооруженном нейтралитете вызвало в нем внутренний протест. По убеждению Воронцова, «Россия была кругом виновата пред Англиею, которая ничем не вызвала случившагося разрыва»240. Он считал Павла I «больным человеком», но еще более ему была «ненавистна» политика Екатерины II, в особенности ее концепция «Вооруженного нейтралитета, в котором он усматривал великое бедствие для России»241. Справедливости ради следует отметить, что во взглядах Воронцова с екатерининских времен произошли разительные перемены: тогда он полностью поддерживал принципы вооруженного нейтралитета и призывал ни в чем не уступать англичанам. Исходя из своего нового понимания русской внешней политики, а также возмущенный тем, что какой-то Пален писал ему инструкции, Воронцов проигнорировал указания из Петербурга за исключением части, которой он был восстановлен в чине посла.
В начале апреля Воронцов получил новые инструкции. На этот раз от назначенного в конце марта вице-канцлером Никиты Петровича Панина, племянника екатерининского канцлера Никиты Ивановича. По замыслу императора это назначение было призвано продемонстрировать британскому кабинету его особое расположение к Великобритании: всем было хорошо известно, что Панин «слишком англичанин» и что он убежден в естественной необходимости дружеских отношений с Англией. Это убеждение в полной мере проявилось в тексте новой инструкции, которую граф по указанию Александра I в начале апреля направил Воронцову. В новой инструкции Панин, в частности, указал на то, что основной причиной, приведшей к разрыву отношений между двумя столицами, стал захват англичанами Мальты. По этому поводу он оговорился, что поскольку новый император не является гроссмейстером Мальтийского ордена, эта причина утратила свою актуальность. Еще одним поводом к разрыву, как отметил Панин, стало требование Павла I к английскому правительству признать конвенцию северных держав, возрождавшую екатерининские принципы вооруженного нейтралитета. Панин откровенно дал понять, что Россия менее других государств-участниц заинтересована в новой конвенции, однако русское правительство вынуждено считаться с обязательствами, принятыми на себя. В частности, Россия обязалась не снимать арест с английских судов и английской собственности до получения всеми государствами-участниками удовлетворения от Англии за незаконный захват их торговых судов. Как писал Панин, император сознает, что добиться признания английским правительством принципов вооруженного нейтралитета будет трудно, но он проникнут уважением к памяти своего почившего отца и подтвердил принятые Павлом I на себя обязательства в отношении интересов Дании, Пруссии и Швеции. Вместе с тем, чтобы доказать искренность своего желания к восстановлению дружеских отношений с Англией государь, по словам Панина, приказал немедленно освободить все экипажи английских судов, задержанных в русских портах, а также снять арест со всех английских товаров и счетов. Арест сохранялось только в отношении самих английских судов, но в Петербурге весьма рассчитывали на то, что Англия будет уважать законные права союзников России.
Тем временем стало известно, что английское правительство начало военные действия против Дании, участницы конвенции. В середине марта 1801 года английский флот в составе 12 линейных кораблей, 5 фрегатов и множества вспомогательных судов под командованием адмиралов Паркера и Нельсона подошел к датской столице. Британцы спешили, они хотели успеть завершить операцию до того, как растают льды в Финском заливе и русский флот сможет покинуть свои базы в Кронштадте и Ревеле. Силы были неравны. После нескольких часов сражения на рейде Копенгагена датчане сдались. По условиям перемирия датский флот был частично затоплен, часть кораблей была включена в состав британской эскадры. Затем эскадра адмирала Нельсона взяла курс на Ревель в расчете застать русский флот врасплох, однако оказалось, что русские корабли уже ушли в Кронштадт.
Александр I направил в Ревель вице-адмирала П.В. Чичагова, который сообщил Нельсону, что государь желает разрешить недоразумения с Англией мирным путем и потребовал удалить английские корабли из русских территориальных вод. Несколько успокоившись, Г. Нельсон понял, что его агрессивный акт в отношении России в тот момент, когда министры в Лондоне намеревались наладить контакты с Санкт-Петербургом, мог причинить большой вред политике Лондона. И он решил изобразить свой приход как акт «доброжелательства». Стараясь успокоить российское правительство, Г. Нельсон написал графу П.А. фон дер Палену: «Я счастлив, что имею возможность уверить Ваше сиятельство в совершенно миролюбивом и дружественном содержании инструкций, полученных мною относительно России…» Ответ Палена не оставлял сомнений в том, что русское правительство не обманывалось насчет истинных намерений британского адмирала. Одновременно Нельсон получил еще одно уведомление от русского правительства. В депеше было повторено, что император считает неуместным приход в Ревель английской эскадры и что никакие переговоры не могут иметь места, пока она находится в русских водах. С этим приходилось считаться, и 5/17 мая Нельсон, простояв в Ревеле 4 дня, увел свою эскадру в Данию. Одновременно в Лондон были переданы указания Воронцову настойчиво добиваться удаления английской эскадры из Ревеля, не останавливаясь перед применением угроз, в том числе в отношении Ганновера.
Ни старые, ни новые указания государя Воронцов тоже не торопился пустить в ход. По этому поводу он писал своему другу Н.Н. Новосильцову: «Я еще недоумеваю: есть ли это насмешка над царствующим государем, или же гр. Панин принимает меня за дурака»242. В начале мая он решился написать самому императору. Письмо было составлено в «категорических» выражениях, но вполне макиавеллевских. Прежде всего, он указал, что не исполнил поручение угрожать Англии в случае ее отказа вывести военные корабли из русских территориальных вод отказом возобновить с ней договор о торговле 1793 года, а также допустить занятие Ганновера прусскими войсками. Поясняя мотивы своего бездействия, русский посол пошел на прямые искажения исторических фактов. Он указывал на то, что коммерческий договор 1793 года был заключен по настоянию Екатерины II как более выгодный России. Упоминание Ганновера, по его словам, вообще неуместно, ибо «Англия совсем не интересуется судьбой Ганновера»243. Посол словно забыл, что все его донесения в Петербург начала 1790-х годов доказывали как раз обратное, что именно англичане добивались заключения коммерческого соглашения с Россией, а он сам убеждал императрицу не уступать ни в чем. Относительно Ганновера слова посла абсолютно не соответствовали действительности. Англичане справедливо упрекали королей из ганноверской династии в том, что «им интересы Ганновера были всегда ближе, нежели польза самой Англии». Судя по всему, за 16 лет пребывания на посту посла в Лондоне Воронцов действительно сделался «совсем англичанином», убежденным в том, что Россия и Англия должны быть связаны неразрывными узами особенно после появления республиканской Франции, этого «колосса исполинской силы». Всю вину за разрыв отношений с Великобританий он возложил исключительно на «беззакония», творившиеся Павлом I, находя поведение англичан исключительно умеренным и проникнутым чувством справедливости. Однако памятуя сыновнее почтение Александра I, отразившееся в рескрипте, Воронцов все-таки постарался найти некоторые оправдания покойному императору. Он, в частности, указал на дурные советы «его вероломных министров», отстаивавших интересы копенгагенского и стокгольмского дворов. Это был явное указание на то, что «вооруженный нейтралитет» был для России вреден.
Далее Воронцов расписывал выгоды торговли с Англией. По его словам, «Россия не имеет и никогда не будет иметь коммерческого мореплавания по причинам физическим и нравственным… Она не имеет колоний; ея военный флот не может быть больше, чем посредственной силы, и только достаточен для сдерживания своей соседки и вечного врага – Швеции. Россия континентальная держава, обладающая наисильнейшею и значительнейшею сухопутной армией, и на европейском континенте с нею может поспорить в силе влияния только одна держава – Франция, благодаря ее чудовищному могуществу и тщеславию. Англичане же всегда смотрели на русских, как на естественных своих друзей, с которыми у них никогда не может быть войн»244. В качестве подтверждения он привел пример Петра Великого, который несмотря на разрыв дипломатических отношений с Англией в 1720 году, не пошел на сворачивание торговых связей, в том числе потому, что симпатии русских купцов якобы всегда были на стороне английских торговцев. В данном утверждении верно только то, что Петр I, разорвав дипломатические отношения с Лондоном, не стал рушить двустороннюю торговлю. При этом он отнюдь не уступал якобы заявленным прошениям русского купечества: от английских торговцев русские купцы терпели самые большие обиды и справедливо упрекали их в стремлении не только монополизировать русский экспорт, но и вести торговлю в розницу по всей территории России.
По всей видимости, не зная в деталях историю отношений с Англией при Екатерине II и Павле I, император Александр не обратил внимания на искажения фактов, допущенных Воронцовым. Более того, в очередном письме он выразил ему свою «монаршую благодарность» за откровенность и радение за интересы отечества. Воронцов почувствовал себя увереннее. Он все-таки был вынужден донести до министра иностранных дел, лорда Хоксбери поручение императора добиваться признания Англией справедливости принципов «вооруженного нейтралитета». Передавая в Петербург ответ министра, посол отметил «ужас», с которым Хоксбери воспринял его слова. По выражению, использованному Хоксбери, ни в одном из соединенных королевств не найдется ни одного здравомыслящего человека, который бы согласился признать эти принципы, ибо цель «вооруженного нейтралитета» состоит в желании подорвать самую основу морского могущества Великобритании. Воронцов пошел еще дальше. Сославшись на Хоксбери, он указал на то, что сама Екатерина II согласилась не упоминать эти принципы в торговом договоре 1793 года, поскольку убедилась в том, что от «вооруженного нейтралитета» выигрывают только Швеция и Дания. Его совершенно не смущало то, что это была уже прямая подтасовка фактов.
В конце апреля того же года Воронцов представил Панину записку о «вооруженном нейтралитете». В записке он утверждал, что в 1780 году императрица ничего не понимала в этом вопросе, ибо думала, что таким образом сможет отблагодарить Англию за разрешение русским судам базироваться в английских портах во время войны с Турцией. Сама концепция «вооруженного нейтралитета», как утверждал Воронцов, была «подсказана» ей шведским королем, а тому, в свою очередь, – французским министром иностранных дел Верженом, злейшим врагом Англии. Более того императрица якобы необдуманно согласилась принять на себя авторство и выступила с этой инициативой от своего имени. Только к 1793 году Екатерина II, по словам посла, стала понимать, что больше всего от «вооруженного нейтралитета» выигрывали враги России и, прежде всего, Швеция. Именно этим, как заметил Воронцов, и объяснялась ее позиция при заключении коммерческого трактата с Англией. О «греческом проекте» императрицы Воронцов не счел нужным упоминать, хотя не мог не знать, что именно стремление императрицы провести в Средиземное море русскую эскадру для поддержки операции по захвату Константинополя, вынудило Екатерину II пойти на подписание торгового соглашения 1793 года, от чего она неизменно уклонялась на протяжении 31 года своего царствования.
Воронцов постарался также убедить Панина в том, что автором проекта конвенции о вооруженном нейтралитете был отнюдь не его знаменитый дядя, Никита Иванович Панин. Он явно опасался, что вице-канцлер будет среди сторонников принципов вооруженного нейтралитета, хотя бы из чувства благоговения перед памятью своего дяди. В довершение он привел два неоспоримых, по его мнению, аргумента в оправдание бесполезности конвенции для России. По его словам, русские порты в течение 7 месяцев покрыты льдом, а русский народ находится в состоянии крепостной зависимости, ненавидит море, и помещик никогда не отпустит своих крепостных за границу. Воронцов напрасно беспокоился: Панин тоже был из новой породы русских англофилов. На молодого императора, привыкшего к придворной лести и подобострастию, нарочито откровенный тон сообщений русского посла из Лондона вполне определенно произвел впечатление. Он приказал Панину отказаться от принципов «вооруженного нейтралитета», но не сразу, а приберечь эту уступку к финалу переговоров, чтобы иметь возможность поторговаться с англичанами.
Тем временем в начале мая в Петербург на фрегате «Лоутон» прибыл английский посол Аллейн Фицгерберт, служивший в русской столице еще при Екатерине и даже входивший в ее так называемый интимный кружок. Фицгерберт был включен в состав свиты русской императрицы по время путешествия по Новороссии. За заслуги на дипломатическом поприще Фицгерберт был пожалован титулом лорда Сент-Хеленса и в новом качестве намеревался выполнить данное ему поручение – передать от имени короля Георга III поздравления императору Александру I, а также начать переговоры о восстановлении дипломатических отношений. Следует отметить, что по пути в Петербург на Балтике ему повстречался адмирал Нельсон, возвращавшийся в Данию. Посол посоветовал адмиралу держаться подальше от политики и ни в коем случае не мешать налаживанию отношений с Россией. Как оказалось, почва для этого была самая благоприятная. Через четыре дня после его прибытия 7/19 мая Россия и Швеция сняли эмбарго с английских судов245.
Стоит ли удивляться, что при таких обстоятельствах и с такими инструкциями, которые получил Панин от императора относительно вооруженного нейтралитета, дело пошло быстро. Морскую конвенцию согласовали за несколько недель. Лорд Сент-Хеленс даже согласился поработать над изменением статей о вооруженном нейтралитете, чем весьма порадовал Александра I. Правки, однако были минимальны, а аргументы английского посла были предельно убедительны и удивительным образом почти полностью повторяли положения записки Воронцова. Уже в начале июня стороны подписали Морскую конвенцию 1801 года, восстановившую дипломатические отношения между двумя государствами. Основные статьи конвенции по сути были продиктованы английским послом. По конвенции Великобритания признала право свободной торговли нейтральных держав, однако при условии беспрепятственного досмотра их торговых судов. Более того, в случае подозрений англичане получили право досматривать даже корабли конвоя и проверять сопроводительные документы. Пункт о праве блокады портов получил новое звучание. Вместо прежнего определения блокады: «блокированным должен считаться порт, войти в который сопряжено с явною опасностью, вследствие стоящих на месте и в довольно близком расстоянии кораблей»246, английский посол предложил свой вариант. Союз «и» Фицгерберт без предварительных согласований заменил в тексте на союз «или». Искаженная формула давала широкий простор для толкования понятия блокады. По новой формуле англичане получили право досматривать практически любое торговое судно, объявляя любой порт блокированным, если хотя бы один английский корабль прикрывал вход в портовую гавань. Ни Панин, ни император не обратили или сделали вид, что не обратили внимания на это искажение. Правда, как утверждается в Русском биографическом словаре247 под редакцией А.А. Половцова, именно после подписания Морской конвенции с Лондоном отношения между императором и Паниным испортились, и в конце сентября 1801 года он был отправлен в отставку. Вполне вероятно, императору объяснили истинный смысл допущенного искажения, а возможно он сам осознал последствия заключенной Морской конвенции. По предложению Панина Дания и Швеция также присоединились к конвенции, после чего лига нейтральных государств, поддерживавших екатерининские принципы вооруженного нейтралитета, прекратила свое существование. Крупнейшее дипломатическое достижение Екатерины II, подтвержденное и продолженное Павлом I, было уничтожено. Надо полагать, самолюбивый и скрытный молодой император просто не пожелал признать тот факт, что был введен в заблуждение собственными дипломатами.
Как бы то ни было, молодому императору пришлось погрузился в вопросы внешней политики. Его первоочередной заботой стало стремление к повышению роли России в европейских делах, а через это и своей собственной. Еще при императоре Павле в Париж были отправлены генерал Г.М. Спренгтпортен и посол С.А. Колычев, которым предстояло заключить договор о возвращении русских военнопленных, а также подписать договор о всеобъемлющем урегулировании в Европе. После неожиданной кончины Павла I переговоры о всеобщем мире застопорились, но договор о возвращении военнопленных был подписан в марте 1801 года. Наполеону очень хотелось привлечь на свою сторону Александра I, поэтому всем солдатам и офицерам пошили новые мундиры, вернули оружие и оплатили их дорожные расходы до Кельна.
После отъезда Спренгпортена С.А. Колычев остался один и продолжил непростые переговоры с Наполеоном и Талейраном о заключении договора о «всеобщем замирении» в Европе, на что он получил прямое указание Александра I. Наполеона этот вопрос интересовал менее всего. Он стремился заключить только двусторонний договор о мире, а также намеревался заставить Россию отказаться от поддержки короля обеих Сицилий и от требования вернуть владения короля сардинского, захваченные французами. Колычев проявлял неуступчивость. Он писал графу Ростопчину: «Нужно быть стойким и ни в чем не уступать: меньше всего нужно идти им навстречу. Нужно от них требовать уважения и верить им только тогда, когда они исполняют свои обещания, ибо никак не следует забывать, что они повсюду стараются властвовать, льстя нам и пользуются нами только как орудием с целью обмануть нас и лучше достигнуть намеченной цели. Их цель состоит в том, чтоб затруднять нас и властвовать над Европою»248. Он был убежден, что Наполеон стремился рассорить Россию с Англией, чтобы продиктовать Лондону условия мира, рассорить Россию с Турцией, чтобы захватить Египет. Колычев подозревал, что первый консул постарается столкнуть Австрию и Пруссию и, опираясь на поддержку русского императора, закрепить за Францией захваченные германские земли. Следует отметить, что Александр I в целом разделял оценки Колычева и в особой инструкции от 16/28 апреля подтвердил позиции, сформулированные еще Павлом I, но вместе с тем обратил внимание, на важность «не уклоняться от того рода услужливости, которая не только не вредит сущности дела, но, напротив, упрочивает его успех»249. Следует отметить, что для этого были основания. Колычев даже в официальных документах на имя Талейрана не стеснялся в выражениях, впрочем, вполне приличных. Он требовал ясных и четких ответов относительно требований России о возвращении захваченных земель Сардинии и королевства Неаполитанского законным государям.
Наполеон был возмущен и по его требованию Талейран предпринимал неофициальные попытки добиться отзыва Колычева из Парижа и замены более сговорчивым дипломатом. В марте Колычев даже подал прошение об отзыве, заявляя, что в Париже требуется человек «более независимый, скромный, прозорливый, твёрдый и, может быть, спесивый». Последнее объяснялось тем, что Наполеон и Талейран вели переговоры в очень личной манере, давили психологически, не останавливаясь перед унизительными приемами. Не рассчитывая сломить упорство русского посла, Наполеон предпринял обходной маневр. В апреле 1801 года в Петербург прибыл первый адъютант Наполеона Дюрок. Официально он приехал поздравить Александра I с восшествием на престол, но его основная миссия состояла в ускорении парижских переговоров. Молодой император принимал Дюрока с большим вниманием, уверял его, что всегда любил Францию и французов, всегда мечтал соединенными усилиями России и Франции положить конец мелким раздорам на европейском пространстве. Более того вопреки инструкциям, данным Колычеву, Александр уверял Дюрока в том, что он ничего не имеет против занятия французами Египта. Он не скрывал, что его настойчивость в вопросе возврата захваченных французами земель объясняется лишь обязательствами перед союзниками: личного интереса у него нет, а есть только желания скорейшего восстановления мира в Европе. По сути, все вопросы, мешавшие заключению мира, были сняты, и требовалось только согласовать секретную конвенцию. Под влиянием Дюрока русский император согласился заменить Колычева. В мае новым послом в Париж был назначен граф А.И. Морков, которому в конце июня/начале июля были даны инструкции добиваться скорейшего заключения мира с Францией и… обеспечить тем самым умиротворение Европы. В остальном они во многом повторяли инструкции, полученные Колычевым еще от Павла I.
Морков прибыл в Париж в начале сентября и сразу же потребовал от Талейрана подтвердить обязательства Французской Республики восстановить занятые французами итальянские государства, рассчитывая на заинтересованность Наполеона в заключении с Россией союза для продолжения борьбы с Англией. Он, однако, быстро понял, что Наполеон не собирается отказываться от своих завоевательных планов и его намерения в отношении итальянских территорий нисколько не изменились. Когда Талейран подтвердил слухи о том, что Наполеон намерен присоединить Пьемонт к французским владениям, Морков попытался угрожать. Он заявил, что в таком случае России ничего не останется, как выполнить взятые на себя обязательства. Неожиданное подписание в Лондоне прелиминарного мира между Англией и Францией (18/30 сентября 1801 года) побудило Моркова согласиться на компромиссное решение спорных вопросов и подписать с Талейраном 26 сентября/8 октября 1801 года Парижский мирный договор. Договор провозглашал мир и дружбу между Францией и Россией. Два государства взаимно обязались не помогать внешним и внутренним врагам другой стороны и согласились отказывать в покровительстве тем своим подданным, которые стали бы вести враждебную деятельность в дружественной стране. Торговые отношения между обоими государствами впредь до заключения нового договора восстанавливались на ранее существовавших основаниях, то есть на базе торгового договора 1787 года, весьма выгодного с точки зрения французов.



