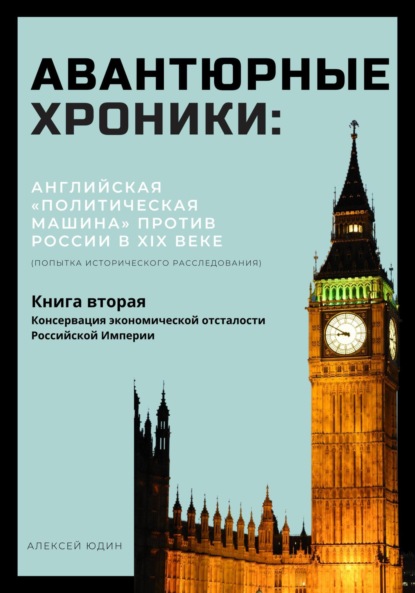
Полная версия:
Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
Лагарп и реформы
Лагарп был единственным человеком, которому Александр мог полностью доверять. Александр не только перенял свободолюбивые взгляды своего воспитателя, но испытывал к этому сильному и мудрому человеку чувство глубокого уважения. При расставании в 1795 году пылкий Александр признался своему учителю и наставнику: «Вам я обязан всем, кроме самого появления на свет». Только ему осенью 1797 года он написал письмо, в котором поделился своими конституционными планами: «Я подумал, что если когда-нибудь наступит мой черед царствовать, тогда, вместе того чтобы покидать отечество, надобно мне попытаться сделать мою страну свободной и тем самым наперед помешать ей становиться игрушкой в руках безумцев. Размышлял я на сей счет очень долго и пришел к выводу, что это будет наилучшей из революций, ибо совершится она законным правителем и закончится тотчас же после того, как конституция будет принята, а нация изберет своих представителей»262. Тогда их тайная переписка прервалась. Лагарп вошел в Директорию только что созданной на базе всех швейцарских кантонов Гельветической республики и не хотел, чтобы его воспринимали как русского шпиона. Это было его детище, за которое он боролся много лет. Александру переписку с прежним воспитателем запретил император Павел I, подозревая в ней недоброе.
В 1800 году в результате переворота Лагарп за свое жесткое и авторитарное правление был изгнан из директории Гельветической республики и скрывался во Франции. В августе 1801 года он появился в русской столице. Годы не изменили убежденного республиканца, но опыт руководства Гельветической республикой сделал более осторожным и прагматичным. Лагарп отказался вновь вступить в русскую службу и предпочел роль неофициального советника императора. Судя по всему, отчасти это объяснялось и желанием Александра не слишком смущать недоверием своих друзей из Негласного комитета. Лагарп редко выходил из дома, он готовил проекты реформ, писал записки для императора, а тот раза два в неделю навещал своего мудрого друга. «Именно в часы этих непринужденных бесед, избавленные от любопытного внимания придворных, так сказать, украдкой, между нами возбуждались те важные вопросы, которые приводили к возникновению моих писем и записок императору», – записал потом Лагарп263. За восемь месяцев пребывания в Петербурге швейцарцем была проделана огромная работа: им было написано свыше 70 писем к Александру, ко многим из которых приложены многостраничные записки и проекты. Они касались самых разных отраслей преобразований: от реформ суда и сословных учреждений до международных дел. Ни один из этих документов не был реализован в полной мере, но это были важные советы, которые сформировали подход Александра I к реформаторской деятельности, и укрепили молодого царя в важном принципе: проводить реформы в России необходимо, не ослабляя, а напротив, в полной мере используя силу государственной власти. Такой опыт извлек Лагарп из собственной политической деятельности. Он вовремя предостерег Александра от того, к чему его подталкивали «молодые друзья», – от передачи части полномочий каким-либо коллегиальным органам, которые бы ограничивали волеизъявление императора. Совсем неодобрительно Лагарп отозвался о проекте российской конституции, подготовленной Чарторыйским. Через его руки прошло много различных конституционных проектов, поэтому он имел возможность судить о «безосновательности этого замысла, убедившей меня, что его породила голова юная и легкая, не отдавая себе отчета в том, что собой представляют 50 миллионов жителей России, а собрав без всякого обдумывания отдельные черты представительных органов, набранные случайно из тех стран, где их опробовали, и ничуть не волнуясь, применимо ли то в России». Еще один ключевой принцип, который Лагарп практически познал на собственном опыте и который также стремился передать своему ученику, – постепенность реформ, внимание к традициям, характеру народа и существующих у него учреждений, пусть даже именно их и требуется обновить в ходе «модернизации». Еще в одном из первых писем весной 1801 год он писал Александру: «Остерегусь Вам давать советы. Один только решусь высказать, мудрость которого проверил я в течение тех полутора лет, когда, на мою беду, возложили на меня почетную обязанность управлять государством; вот в чем он состоит: сколько-нибудь времени предоставьте административной машине работать, как прежде, наблюдайте за ходом ее, а реформы начните, лишь когда убедитесь совершенно в их необходимости264. Вот только Лагарп забыл или не сумел объяснить молодому императору какими критериями ему следует руководствоваться, чтобы «убедиться совершенно в их, реформ, необходимости».
Стоит ли удивляться тому, что в марте 1806 года министр внутренних дел В.П. Кочубей подал Александру I «Записку об учреждении министерств». В ней отмечалось «совершенное смешение» в государственном управлении, которое «дошло до самой высшей степени» за четыре года после начала министерской реформы. Министр предлагал следующие меры к исправлению положения: подбор на министерские посты единомышленников; определение отношения министерств к Сенату, Комитету министров, Непременному совету, губернскому управлению; урегулирование отношений между министерствами; наделение министров правомочием разрешения дел по существу; определение ответственности министров. Император сомневался и не торопился. Его, по всей видимости, пугали решительность и бескомпромиссность друзей-реформаторов, он предпочитал углубиться в более безопасные вопросы, ускорить, например, труды по кодификации российского законодательства.
Александр I и братья Бентамы
Впрочем, кодификация российского законодательства тоже оказалась делом непростым. Сама по себе кодификация, на первый взгляд, не таила в себе ничего опасного с точки зрения стабильности патриархального русского общества. Один из биографов нового царствования писал: «В то время, когда задумывалась в России обширная кодификация, а в среде главных деятелей этой реформы господствовало стремление доставить стране счастье посредством законодательства, вполне естественно было обратиться к содействию лица, стоящего во главе современной юридической науки, и думавшего, что единственной целью законодательства может быть лишь счастье общества. Это был – Бентам».
На самом деле это преувеличение. В начале царствования Александра I творчество Бентама было известно в России немногим. Как уже отмечалось, с Бентамом были знакомы в конце 1760-х годов братья М.И. и И.И. Татищевы, служившие в русском посольстве в Лондоне. Но в ту пору Бентам был еще совсем молодым человеком. Он еще не определился в своих планах и с интересом прочитал перевод на английский язык брошюры М.И. Татищева о «Наказе» Екатерины II Комиссии о составлении нового Уложения и сам «Наказ», который представлял собой компиляцию из трактатов Ш. Монтескье «О духе законом», Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» и статей Д. Дидро и Ж. д’Аламбера в «Энциклопедии». С тех пор Бентам и заинтересовался вопросами кодификации права, стал изучать труды К.А. Гельвеция и Ч. Беккариа.
Был знаком с некоторыми трудами Бентама адмирал Н.С. Мордвинов. Возможно, он даже читал его первую книгу «Фрагмент о правительстве», которая появилась в 1776 году. В тот год Мордвинов проходил стажировку на кораблях английского флота, но маловероятно, что он уже тогда узнал о Бентаме: книга была издана анонимно. Более вероятно, что он читал сочинения Бентама позднее в изложении Дюмона на французском языке. Знаменитый адмирал входил в ближайшее окружение императора Павла I. При новом императоре он тоже не затерялся. В первом правительстве Александра I он недолго занимал пост морского министра, а также состоял членом Непременного совета. Мордвинов был чрезвычайно высокого мнения о Бентаме. В письме Самуилу Бентаму, с которым познакомился во время турецкой кампании, он писал: «Я желаю поселиться в Лондоне и познакомиться с Вашим братом. В моих глазах он один из четырех гениев, которые сделали и сделают всего больше для счастья человечества: Бэкон, Ньютон, Адам Смит и Бентам. Каждый из них – основатель новой науки, каждый – творец. Я держу в запасе некоторую сумму с целью распространения того света, который исходит из творений Бентама». Мордвинов не был лично знаком с Иеремией, но при содействии Самуила между ними завязалась переписка. Мордвинов не скрывал, что был одним из самых горячих и убежденных поборников идей Бентама в русском обществе. Он сумел заинтересовать бентамовскими идеями императора Александра и даже организовал их частную переписку, получая корреспонденцию из Лондона на свое имя. Бентам называл адмирала своим уполномоченным, имеющим от него «carte blanche». «В Вас, – писал ему Иеремия, – я вижу просвещенного друга Вашего отечества и испытанного друга моего брата. С нетерпением жду того момента, когда мне можно будет пожать Вашу руку в моем уединении».
Читал сочинения Бентама во французском переводе Дюмона и будущий крупный законодатель Михайло Михайлович Сперанский, который к тому времени стал благодаря своему непревзойденному таланту составителя «всяческих бумаг» негласным секретарем Негласного комитета. Примечательно, что Сперанский также как Мордвинов был женат на англичанке, а его идейным наставником в годы юности и становления был уже упоминавшийся англофил и англоман Андрей Афанасьевич Самборский, успевший послужить в церкви при русском посольстве в Лондоне. Кстати, Самборский преподавал английский язык наследнику престола и его младшему брату, великому князю Константину. Следует, вероятно, напомнить, что именно в его доме в Лондоне Бентам свел знакомство со многими русскими дипломатами и приезжими из России. Он был тогда совсем молодым человеком и объяснить его интерес к России и русским чрезвычайно не просто.
С целью «доставить счастье стране» Негласный комитет возобновил работу «Комиссии составления законов», во главе которой стоял сначала М.М. Сперанский, а затем остзейский юрист, барон Розенкампф, считавшийся тогда пламенным почитателем Бентама. В 1802 году Дюмон издал в Париже трехтомное исследование Бентама по вопросам гражданского и уголовного права и некоторая часть тиража оказалась в России. В том же году Дюмон отправился в Петербург с целью распространения в русском обществе идей своего учителя. Его приняли в русской столице чрезвычайно радушно. В одном из писем своему другу Ромильи265 Дюмон писал: «Сочинение Бентама ставят выше всего, что ему предшествовало. Поверите ли, что в Петербурге было продано моего Бентама266 столько же экземпляров, сколько в Лондоне. Сто экземпляров были проданы в очень короткое время, а книгопродавцы все требуют нового запаса. Это доставило мне благосклонность многих лиц, которою при случае воспользуюсь. Книге удивляются, а издатель скромно принимает свою долю в этом удивлении»267. Следует подчеркнуть слова Дюмона «мой Бентам», ибо совсем неясно сколько в сочинении содержится действительно бентамовского. Одновременно Дюмон подробно информировал своего друга обо всем, что происходило в Петербурге, сообщал все городские сплетни, слухи, много писал о личности и характере императора и людях, его окружавших. Он получил доступ к материалам «Комиссии составления законов» и был крайне недоволен деятельностью барона Розенкампфа, полагая, что тот тормозил работу Комиссии.
Напротив, о Сперанском он был самого высокого мнения, ибо был многим ему обязан. Следует подчеркнуть, что к этому времени Сперанский стал правой рукой тогдашнего министра внутренних дел В.П. Кочубея. Михайло Михайлович принял личное участие в переводе на русский язык избранных мест сочинений Бентама. Перевод первого тома вышел из печати в 1805 году, но до этого читающая публика могла составить себе понятие о Бентаме по статьям, печатавшимся о нем и его книгах в первом русском официальном издании министерства внутренних дел, появившемся в 1804 году под названием «Санкт-Петербургский журнал». Кроме многочисленных статей, извлеченных из сочинений Бентама, читающую публику знакомили с сущностью «Платоновой республики», с «Мнениями греческих философов о правлении», с учением Адама Смита, со способами истребить нищенство, писали о свободе печати, о злоупотреблении привилегиями и тому подобных острых вопросах. Для русских читателей все эти публикации представляли «совершенную прелесть новизны»268. И все это печаталось на страницах официального органа министерства внутренних дел. Надо ли удивляться, что русский император все больше задумываться о возможных последствиях замышлявшихся реформ. Кроме того, нельзя исключать, что в Петербурге стало известно о той роли, которую Дюмон и Бентам сыграли во французской революции.
Миссии Хитрово и Новосильцова
Императора Александра могла также насторожить настойчивость Бентама, который через Мордвинова предлагал свои услуги кодификатора русского уголовного и гражданского права. В 1804 году Александр I направил в Лондон своего личного представителя, ветерана наполеоновских войн, генерал-майора Михаила Елисеевича Хитрово «для изучения организации тюремного и госпитального дела в Европе». Генерал Хитрово проявил большой интерес к проекту «Паноптикона», написал несколько писем автору, прося о личной встрече, но Иеремия уклонился, подчеркивая в посланиях генералу, что нет ничего такого, чтобы он не сказал в своих книгах, а просто светская беседа не является его обычаем. С Хитрово активно встречался и оказывал ему содействие Самуил Бентам. При этом Иеремия писал для брата подробные инструкции по поводу того, что следовало спросить и сказать русскому генералу. За шесть месяцев пребывания генерала в Англии Иеремия не решился ни на одну встречу, правда позднее он допускал, что генерал был крайне интересным человеком, обладающим властью и волей делать добрые дела. Ему также удалось выяснить, что Хитрово был доверенным лицом императора еще со времен царствования Екатерины, и даже жил в покоях Александра I во дворце. Оказалось также, что Александр I был единственным адресатом генерала в России, только императору Хитрово отправлял свои сообщения из-за границы в ходе почти двухлетней поездки.
Возвращаясь в Россию, Хитрово встретился в Европе с Новосильцовым, еще одним доверенным лицом Александра Павловича и старым знакомым Бентама. Новосильцов направлялся в Лондон для переговоров о заключении русско-английского союза. Хитрово попытался организовать встречу Новосильцова со старшим Бентамом и даже написал Самуилу с просьбой оказать содействие. Однако и Новосильцову не пришлось возобновить знакомство со знаменитым правоведом. Не помогли даже хлопоты преподобного отца Смирнова, который сменил Самборского в качестве настоятеля русской православной церкви при русском посольстве в Лондоне. Иеремия повторял ответ, данный Хитрово, о том, что он обязательно ответит на его любое письменное обращение и будет готов к беседе, если в ней будет то, чего нельзя написать, и это не будет общепринятый светский разговор. Закрытость Бентама и его грубоватое нежелание общаться с представителями русского императора объяснить крайне трудно тем более, что он одновременно выражал готовность вновь побывать в России, чтобы принять участие в составлении нового российского гражданского законодательства. Понимая необходимость как-то объяснить свое нежелание встречаться и свои мотивы, побуждавшие его отправиться в Россию, подозрительному Новосильцову, Иеремия писал: «Имея возможность прожить в России почти 2 года, я прекрасно представляю разницу в состоянии дел здесь и в России, поэтому не может быть и речи о том, чтобы перенести английские институты, полезные в Англии, и только потому, что они английские, на почву иного государства». При этом Бентам писал о том, что проекты кодексов следовало бы опубликовать и устроить по ним общественную дискуссию, в которой он мог бы сам принять участие. Новосильцов оставил письмо без ответа, его миссия, также как и миссия Хитрово окончилась неудачей. Несомненно, однако, что намерение Бентама устроить в России «общественную дискуссию» многое ему объяснила.
Впрочем, Александр Павлович и без того утратил доверие к старым друзьям и их идеям. К тому же все его внимание поглощали вопросы внешней политики. Россия в составе очередной коалиции вела тяжелую и неудачную войну с наполеоновской Францией, первоначальная популярность Александра Павловича стремительно падала, его самолюбие жестоко страдало. Он не послушал предупреждений своих прежних друзей. В самом начале царствования Кочубей в специальном меморандуме писал ему: «Мир и внутреннее реформирование – вот слова, которые должны быть написаны золотыми буквами в кабинетах наших государственных деятелей». Даже неискренний Чарторыйский предлагал «…держать Россию подальше от европейских дел и поддерживать хорошие отношения со всеми иностранными державами, чтобы посвятить время и все усилия на выполнение внутренних реформ». На одном из заседаний Негласного комитета было даже решено, сохраняя достоинство России, не вмешиваться, конечно, по возможности, в чужеземные дела и держать себя совсем самостоятельно, избегая каких-либо договоров»269. Вопреки советам друзей император вмешался в европейские дела и теперь от поражения к поражению на поле боя стремительно двигался к дипломатической катастрофе в Тильзите.
Самуил Бентам снова в России
Примечательно, что все это время, начиная с 1805 года Самуил Бентам снова находился в Петербурге. На этот раз он приехал по поручению британского правительства, но цель поездки осталась неизвестной. Утверждают, что он руководил строительством Паноптикона, приспособив свой многострадальный проект для школы искусств в Петербурге. Само здание не уцелело, оно сгорело во время большого пожара, но чертежи, по некоторым данным, в архивах сохранились. В 1807 году Самуил был вынужден вернуться в Британию, якобы «не сумев выполнить поставленные перед ним задачи». Что это были за задачи – остается только гадать, но период, на который пришлось пребывание Самуила Бентама в Петербурге, был весьма напряженным для Александра I. После поражения армий третьей коалиции при Аустерлице в 1805 году, была создана четвертая антинаполеоновская коалиция в составе России, Британии, Пруссии, Швеции и Саксонии, но реально оказывать сопротивление Наполеону была в состоянии только русская армия под командованием генерала Бенигсена. Однако после поражения под Фридландом, русская армия была вынуждена отступить за Неман на свою территорию, а 7 июля 1807 года был заключен Тильзитский мир. Четвертая коалиция прекратила свое существование, отношения между Британией и Россией были прерваны.
Вполне, возможно, что задачи, поставленные перед Самуилом, были как-то связаны с попытками английского правительства не допустить заключения мира между Россией и Францией. Возможно, ему было поручено оказать негласное содействие официальным британским дипломатическими представителям, которые в этот период как-то подозрительно быстро менялись, а у Самуила сохранялись обширные связи в высшем свете Петербурга. Представляется, однако, что задачи, поставленные перед Самуилом, были не только сиюминутными. Очень похоже на то, что как в свое время Ромилли в Париже задолго до Французской революции Самуилу Бентаму предстояло продолжить дело, начатое Дюмоном: выявить особо недовольных русским самодержавием, установить с ними связь, приобщать их к «передовым английским идеям», организовать между ними некоторое взаимодействие. Обстановка для этого была вполне подходящая. Непопулярность императора после Тильзитского мира была сравнима с пиком его популярности в начале царствования. Примечательно, что в этот период братья Бентамы вели активную переписку. В их письмах постоянно мелькают имена Сперанского, Кочубея, Новосильцова, барона Розенкампфа и многих других «энтузиастов перемен» в России. Самуил обстоятельно информировал брата о положении и настроениях в России. Следует обратить внимание на то, что Иеремия нарушил «обет затворничества» и снова много общался с русскими представителями в Лондоне, в частности с преемником отца Самборского при русском посольстве преподобным Яковом Ивановичем Смирновым, в доме которого по-прежнему широко принимали приезжих из России. Несомненно, были у Иеремии и другие корреспонденты в Петербурге, и среди них несомненно выделялись Сперанский и адмирал Мордвинов. К тому времени в Петербурге уже образовалась довольно большая колония выходцев из Англии, а также вполне сложилась «английская партия». Некоторые историки, полагают, что именно в тот период в русском обществе закладывались основы того, что через двадцать лет назовут духом «декабризма».
Англичане в России
Следует напомнить, что все четверо членов Негласного комитета побывали или даже подолгу жили в Британии как, например, Чарторыйский и Новосильцов. Многие русские побывавшие в Англии, сделались поклонниками английского стиля жизни, насмотрелись на английские промышленные достижения, проникались идеями парламентаризма, охотно изучали английский язык и вполне определенно связывали с Англией свои представления о путях развития России. Эти русские англофилы создавали в высших кругах Петербурга особую атмосферу, в которой не было места мыслям о возможности враждебных отношений между Россией и Британией, а постепенно осознаваемое техническое отставание русской промышленности вызывало потребность в заимствовании английских машин, опыта и знаний, создавало предпосылки для расширения экспорта английских товаров. И для подобных надежд были вполне весомые основания: еще до подписания англо-русской морской конвенции почти все торговые ограничения в отношении Британии были сняты.
По традиции, сложившейся еще во времена Ивана III и Ивана Грозного, иностранцев охотно приглашали на русскую службу. Особенно много иностранцев, прежде всего англичан и голландцев, как опытных кораблестроителей и навигаторов, появилось в русской армии и на флоте при Петре I. Традиция поддерживалась и в последующие царствования. При Екатерине II на Черноморском флоте служил адмирал Пол Джонс, Кронштадтом командовал другой англичанин, адмирал Самуил Грейг, а его сын адмирал Алексей Грейг прославился на Черном море уже при Александре I. Еще один адмирал Роман Васильевич Кроун, уроженец Шотландии, успел повоевать и на Черном море, и на Балтике, и на Белом море.
При Екатерине сложилась и окрепла английская колония в Петербурге. Императрица сама пригласила в Петербург английскую драматическую труппу Фишера, в русской столице активно действовали английские купцы, промышленники строили мануфактуры, работало много врачей, архитекторов, художников из Англии. К 1800 году, когда численность жителей Петербурга достигла 250 тысяч человек, в английской колонии насчитывалось почти 1800 человек270. Это была небольшая, чтобы не сказать незначительная часть населения столицы, но влияние англичан было велико. Английские купцы, которых в столице было не больше восьмисот271, по оценкам современников были «… необычайно богаты и обладали таким влиянием, могуществом и состоянием, что сопоставимы с 20 000 представителей других наций»272. В значительной степени их влияние объяснялось умением наравне с голландцами осуществлять международные расчеты с использованием переводных векселей.
Традиционно англичане селились неподалеку друг от друга, первоначально на Нижней набережной, которая со временем получила свое современное название – Английской. В дальнейшем, когда Английская набережная приобрела слишком высокий престиж, английские семьи переселились на параллельную ей Галерную улицу, однако посольство Британии до революции 1917 года оставалось на Английской набережной. Англичане в отличие от других иностранцев вращались преимущественно в пределах своей колонии, сохраняя мельчайшие английские бытовые привычки. Британцы установили обычай держать в семьях не только английских слуг, учителей, гувернеров, но даже парикмахеров, конюхов и мастеров-наездников273. Как утверждали современники, даже уголь англичане привозили из Англии274. Связи с родиной поддерживались разными способами. Дети из английских семей в обязательном порядке получали образование в английских университетах. Браки заключались преимущественно между соотечественниками. Из числа давно живших в Петербурге британцев была даже такая семья, которая каждый четвертый год ездила в полном составе в Англию: отец семейства не хотел, чтобы его дочери говорили по-английски с русским акцентом275
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Юдин А.П., «Авантюрные хроники: английская дипломатическая служба в России», Литрес, 2023 г.



