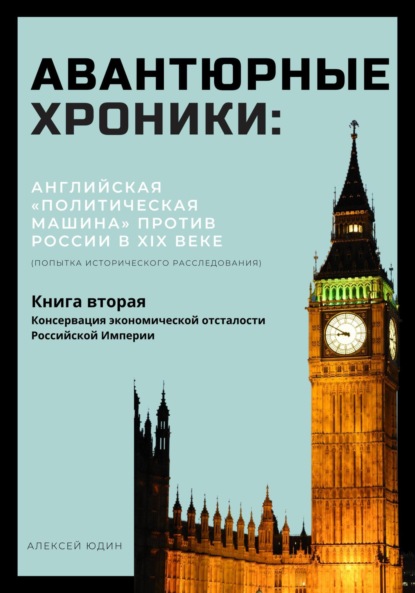
Полная версия:
Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
Через два дня, на этой отсрочке особо настаивал Талейран, чтобы подчеркнуть отсутствие взаимосвязи между документами, была подписана секретная статья, которая задумывалась как прочное основание для умиротворения Европы. Франция и Россия обязались действовать сообща в вопросе возмещения потерь германских князей, лишившихся по Люневильскому миру 1801 года владений на левом берегу Рейна, за счет секуляризации церковных владений. При этом обе стороны условились по возможности не допускать крупных перемен в Германской империи и сохранять равновесие между Австрией и Пруссией. Бавария и Вюртемберг, находившиеся под покровительством России, должны были получить соответствующие компенсации за свои территориальные потери. Обе стороны договорились также действовать в согласии при урегулировании политических дел Италии и папского престола. Французское правительство обязалось сохранить неприкосновенность неаполитанских владений и немедленно после решения судьбы Египта признать нейтралитет Неаполитанского королевства и вывести из него французские войска. В отношении Сардинского королевства (Пьемонта) Франция ограничилась неопределенным обязательством «заняться дружески и доброжелательно, в согласии с Россией, интересами короля Сардинии, поскольку это возможно по настоящему положению вещей». Обе державы признали независимость и конституцию республики Семи (Ионических) островов, причем Россия обязалась вывести оттуда свои войска. Россия принимала на себя посредничество в заключении мира между Францией и Турцией и обещала ходатайствовать в Константинополе об освобождении французских пленных. Одна из статей конвенции возлагала на Россию и Францию обязательство действовать совместно в целях «восстановления равновесия» в различных частях света и обеспечения свободы мореплавания. Как полагают, эта формула была отголоском «вооруженного нейтралитета» и предполагала возможность совместного выступления против Англии.
Остается только гадать о том, какими соображениями руководствовался опытный и изощренный дипломат, каковым Морков несомненно являлся, подписывая секретную статью. По оценке Ф.Ф. Мартенса, известного русского специалиста в области международного права, «если вникнуть в буквальный смысл секретной конвенции, то нетрудно убедиться в том, что она оставила открытыми все главные спорные вопросы»250. Невольно складывается впечатление, что давая последние указания Моркову, Александр I, не обладая опытом большой дипломатии, самонадеянно задумывал план большой интриги и мог сделать какое-то неосторожное замечание по поводу Египта. По некоторым данным, еще в апреле 1801 он обсуждал с Дюроком план совместного похода Франции и России в Индию. Принято считать, что Александр I отказался от участия в походе, однако из сообщений Дюрока в Париж известно, что молодой император ничего не имел против занятия французами Египта251, который вполне мог стать базой для размещения французского экспедиционного корпуса и подготовки «индийской экспедиции». Некоторые историки считают достаточно обоснованными подобные предположения и указывают на то, что в стратегических замыслах Наполеона на 1808 год и даже позже фигурировал план отправки через Египет и Аравийский полуостров отряда силой до 35 тысяч пехоты и конницы. Его конечной целью была Индия252. Поэтому нельзя исключать, что отозвав из индийского похода казачий отряд атамана Орлова, Александр I не был уверен в достаточной обоснованности своего решения и продолжал колебаться, продумывая возможность при благоприятных обстоятельствах все же присоединиться к экспедиции в Индию.
Негласный комитет
Заботы внешней политики на какое-то время отвлекли Александра Павловича от дум о доставшемся ему государственном хозяйстве. По всей видимости, имевшийся у него к тому времени жизненный опыт и длительные разговоры с друзьями юности о России позволяли оценить масштаб задачи, но не давали практических подходов к ее решению. Молодому императору было очевидно, что одинокий разум не в состоянии охватить и осмыслить все множество проблем, стоящих перед высшим руководителем государства, расставить их в порядке приоритетов, согласовать их с самодержавным устройством власти и своими республиканскими убеждениями. Среди советников покойного императора искать единомышленников было бесполезно и даже опасно. Многие из них участвовали в заговоре против Павла I и подобно графу Палену полагали, что молодой император еще не скоро сможет стать реальным правителем России. В их представлении Непременный совет, созданный в апреле 1801 года и получивший полномочия опротестовывать действия и указы императора, по сути отстранил императора от реальной власти. Разубеждать их Александр I не торопился, поэтому постарался, по крайней мере на первых порах, не афишировать свои встречи с друзьями детства и юности, которых он пригласил в свои советники. Их он хорошо знал и мог вполне доверять. Их встречи происходили довольно часто, два-три раза в неделю. После общего обеда Александр уходил к себе в кабинет, приглашенные покидали зал, а друзья незаметно проходили в соседнюю комнату, которая соединялась с кабинетом императора. Главная задача Негласного комитета, так стали называться эти встречи, заключалась в уяснении того, что представляла собой Россия в новом царствовании и подготовке реформ, по выражению самого Александра, её «безобразного государственного здания». Первым приглашенным в Негласный комитет стал Павел Строганов.
Павел Александрович Строганов
Павел Строганов родился во Франции в 1774 году в семье графа Священной Римской империи Александра Сергеевича Строганова, одного из богатейших людей России. Семья Строгановых в течение десяти лет до 1779 года состояла при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Крёстным отцом Павла Александровича Строганова был российский император Павел I, а другом детства – цесаревичАлександр Павлович. Воспитанием сына занимался Шарль-Жильбер Ромм, преподаватель математики. Родным языком Павла стал французский и по возвращении в Россию ему пришлось заняться изучением русского языка и православия. Вместе с воспитателем Павел много путешествовал по России и за шесть лет успел побывать на берегах Ладожского озера, посетил Великое княжество Финляндское, Москву, Казань, Нижний Новгород, побывал на Валдае, в Малороссии и Крыму, в Новгороде, Туле и даже посетил Урал. Систематическое образование он начал получать после 12 лет, поскольку Ромм вслед за Жан-Жаком Руссо считал, что до этого возраста преподавать детям науки не следует. В 1786 году Павел получил чин подпоручика лейб-гвардии Преображенского полка и с разрешения своего шефа Григория Потемкина отправился вместе с Роммом в Европу для завершения образования.
За три года Павел Строганов и его двоюродный брат Григорий побывали в Швейцарии, Италии, Австрии, Пруссии и Франция. По некоторым данным, они заезжали даже в Великобританию. В Университете Женевы Павел изучал ботанику, богословие, химию и физику, немецкий язык, много занимался фехтованием и верховой ездой. Совершал походы в горы и занимался любительской минералогией. Французскую революцию Павел и его воспитатель встретили в Париже накануне открытия Генеральных Штатов. По настоянию своего воспитателя Строганов изменил фамилию и стал известен под именем Поль Очёр (Очёр – поместье Строгановых в Пермской губернии). В Париже Павел продолжал активно учиться, посещал занятия по военному искусству. В мае 1789 года Ромм и Павел начали регулярно посещать Версаль, где заседали Генеральные штаты, а позднее клуб якобинцев. Поль Очёр даже подписал 3 июля 1790 года вместе с А. Барнавом, братьями Ламетами, Адриеном Дюпором, Максимилианом Робеспьером и Жоржем Дантоном обращение «Общества друзей клятвы в Зале для игры в мяч» к Национальному собранию.
По требованию отца Строганову пришлось покинуть Париж, а затем за ним во Францию был прислан его двоюродный брат Николай Новосильцов, который сопровождал его на обратном пути в Россию. В России молодому графу было рекомендовано поселиться в подмосковной усадьбе его матери, возвращаться в Петербург ему было запрещено. Строганов не был уволен с военной службы и в 1791 году был произведен в поручики Преображенского полка, а к 1792 получил чин камер-юнкера. В Петербург ему было позволено вернуться только в 1795 году, где он возобновил общение с другом детства, цесаревичем Александром, который сообщил ему, что является «восторженным поклонником Французской революции» и тоже считает себя «якобинцем». Строганова такие настроения великого князя несколько встревожили, граф посчитал, что Александр находится во власти «опасных заблуждений» и обратился к двоюродному брату Н.Н. Новосильцову, чтобы совместно уберечь Александра от необдуманных поступков.
Николай Николаевич Новосильцов
Николай Новосильцов253 стал самым старшим из членов Негласного комитета. К тому времени ему уже исполнилось сорок лет и он обладал немалым военным и дипломатическим опытом. В 1783 году он был выпущен из Пажеского корпуса в капитаны лейб-гренадерского полка. В 1785 году он перешёл секунд-майором в Волынский регулярный казачий полк. В 1786 году причислен к Коллегии иностранных дел. В войну со Швецией (1788—1790) Новосильцов отличился в сражении под Бйорке-Зундом. За отличие в сражении при острове Мусала 13 августа 1789 года был произведён в полковники. Во время подавления восстания в Польше и Литве (1792—1795) Новосильцев несколько раз отличался в битвах, проявил способности вдумчивого администратора и ловкого дипломата, что понравилось князю Адаму Чарторыйскому. По окончании войны князь Адам представил его великим князьям Александру и Константину Павловичам. Новосильцов снискал особенное расположение первого и вошёл в т. н. интимный кружок Александра Павловича, где обсуждались идеи возможных государственных преобразований. Своим друзьям он казался слишком осторожным, но вдумчивый и внимательный Николай Николаевич приобрел симпатию будущего императора именно своей надежной, лишенной крайностей позицией. Кроме того, он любил «на будущее» вести записи бесед и предлагаемых проектов реформ.
Интимный кружок просуществовал недолго. Императору Павлу казались подозрительными встречи «юных заговорщиков». Чарторыйскому пришлось отправиться послом в Сардинию, Строганов был отправлен в имение отца под «домашний арест». По совету Александра Павловича Новосильцов немедленно подал в отставку и уехал за границу. Он посетил несколько европейских стран, а затем осел в Великобритании. Его привлекли стиль жизни англичан из высшего общества, замысловатое сочетание традиционного английского права и парламентских актов, представлявших собой некоторое подобие конституции и ограничивавших произвол монарха. По привычке он делал заметки, но главные его интересы лежали в другой сфере. Во время своего четырехлетнего пребывания в Лондоне Николай Николаевич посещал университетские лекции по физике и математике, а также изучал медицину.
По вступлении на престол Александр I немедленно вызвал Новосильцова в Петербург, где ему предстояло стать одним из ближайших сподвижников императора и его личным секретарём («находится при особо порученных от Е. И. В. делах»). За короткий срок по распоряжению государя Николай Николаевич изучил множество документов, имевших отношение к замышляемым реформам: относительно сельского хозяйства, торговых отношений, развития казенных предприятий. Искусство и культура, учреждение печатных изданий, народное образование и управление делами религий также входили в круг его ведения. Он готовил предложения по внесению изменений в налоговое законодательство, реформированию финансовой системы Эстляндии и Лифляндии, а также составил предварительный проект освобождения местных крестьян. Кроме того, Новосильцев создал регламент обязанностей и полномочий нового Сената и составил Положение о министерствах. Комнаты Новосильцова во дворце располагались недалеко от апартаментов Александра I, и Николай Николаевич был вхож к нему в любое время.
В 1802 году он стал «вольным каменщиком», одним из братьев воссозданной в России старинной французской масонской ложи «Соединенных друзей», о которой уже упоминалось ранее.
Адам Ежи Чарторыйский
Князь А́дам Ежи Чарторыйский родился в 1770 году в Варшаве, в семье одного из лидеров польских националистов Адама Казимира Чарторыйского и Изабеллы Флеминг, прозванной поляками за свой «исступленный патриотизм» «маткой отчизны». Князь Адам получил отличное домашнее образование и в возрасте 16 лет вместе с братом был отправлен в заграничное путешествие. Как отмечают историки, пребывание в Англии оказало наиболее глубокое воздействие на молодого поляка. В Польшу он вернулся перед самой Русско-польской войной 1792 года, приведшей ко второму разделу государства. Он принял участие в военной кампании и был вынужден по окончании войны снова уехать в Англию. Князь Адам попытался также принять участие в восстании Костюшко в 1794 году, но был арестован в Брюсселе по распоряжению австрийского правительства. Екатерина II приказала наложить секвестр на владения Чарторыйских. В ходе переговоров при посредничестве австрийского императора Франца II Екатерина II пообещала пересмотреть своё решение, если молодые князья Адам и Константин вступят в русскую службу. Братья приехали в Санкт-Петербург 12 мая 1795 года. В тот же год братья Чарторыйские по милости императрицы стали офицерами русской гвардии: Адам – конногвардейцем, Константин – измайловцем. Кроме того, 1 января 1796 года оба брата были пожалованы в камер-юнкеры. Во дворце князь Адам неожиданно сошелся с цесаревичем Александром Павловичем; между ними завязалась тесная дружба, возбудившая, как уже отмечалось, подозрение императора Павла, который в 1798 году отправил его в качестве посла к сардинскому двору. В 1801 году Чарторыйский возвратился в Петербург, где его царственный друг, теперь император, пожелал пользоваться его советами. Адам Чарторыйский вошёл в состав ближайших сотрудников Александра I и в этом качестве принял деятельное участие в заседаниях Негласного комитета, в котором обсуждались преобразовательные планы нового правительства. При этом для молодого императора не был секретом польский патриотизм князя Адама, который открыто декларировал, что его деятельность ни в коем случае не будет противоречить интересам Польши.
Виктор Павлович Кочубей
Виктор Павлович стал четвертым членом Негласного комитета. Он происходил из малороссийского казацкого родаКочубеев. Он родился в ноябре 1768 года в родовой усадьбе Диканька на Полтавщине, в семье Павла Васильевича Кочубея и Ульяны Андреевны, урождённой Безбородко. Виктор стал правнуком генерального писаря Василия Леонтьевича Кочубея, казнённого Петром I в 1708 году по обвинению в «ложном» доносе на гетмана Мазепу, который, по его словам, собирался бежать к Карлу XII. Как известно, бегство действительно произошло. Мать его была родной сестрой светлейшего князя, канцлера А.А. Безбородко. В 1775 году бездетный канцлер пригласил племянников Виктора и его старшего брата Апполона к себе в Петербург и взял на себя заботу об их воспитании и образовании. Виктор Павлович учился в частном пансионе де Вильнёва, одновременно в 1776 году был записан на службу в Преображенский лейб-гвардии полк. Де Вильнев прежде был одним из преподавателей тогдашнего шведского короля Густава III; его пансион считался одним из лучших и аристократических в столице; плата за учение и полное содержание составляла 220 рублей в год – очень немалые деньги по тем временам. Безбородко с похвалой отзывался о дарованиях и успехах своего племянника и для завершения образования отправил его в Женеву, где его воспитателем по рекомендации С.Р. Воронцова стал А.Я. Италинский, широко образованный человек, член ряда научных обществ и большой англоман.
В январе 1784 года В. Кочубей получил первый офицерский чин и был назначен адъютантом к князю Потемкину, а в декабре отправился в Стокгольм, к новому месту службы в русском посольстве. Первый год он продолжал свое образование, слушал лекции в Упсальском университете. Результатом его занятий стала записка о «праве народном», сохранившаяся в его архиве. Со второго года он включился в дипломатическую активность миссии и, как утверждают, большинство депеш в Петербург были написаны его рукой. В сентябре 1786 года Виктор Кочубей вместе со старшим братом был произведен в камер-юнкеры и включен в свиту императрицы на время ее путешествия по Югу России. Во время путешествия он познакомился с великим князем Павлом Петровичем и заслужил его расположение.
По некоторым данным, проезжая в том же году через Москву, Кочубей вступил в масонскую ложу «Минервы», где мастером стула был А.П. Фролов-Багреев, муж еще одной родной сестры князя Безбородко. В бумагах Кочубея сохранился диплом, подтверждающий его принадлежность к этой ложе. Когда началось следствие по делу московских масонов, которые пытались уговорить наследника престола принять пост гроссмейстера русских розенкрейцеров254, фамилия Кочубея всплыла, но ни Новиков, ни Лопухин, ни Тургенев, ни князь Трубецкой не смогли припомнить, кем и когда «уловлен был» Кочубей. Судя по всему, следствие сочло эпизод незначительным, а возможно А.А. Безбородко, который имел отношение к следствию, сумел выгородить племянника.
Весной 1788 года Кочубей был причислен к русской миссии в Лондоне. Безбородко поручил его особенному вниманию графа С.Р. Воронцова, русского посланника в Англии. Кочубей произвел на Воронцова весьма благоприятное впечатление своей образованностью, умом и огромной работоспособностью. Кочубей на всю жизнь сохранил наилучшие отношения с Семеном Романовичем и его сыном Михаилом Семеновичем, а позднее с братом посланника, графом Александром Романовичем. Их письма друг другу, писавшиеся на протяжении многих лет, сохранились в фонде Воронцовых.
Служба в Англии дала возможность Кочубею ближе познакомиться с английскими порядками. Как утверждают историки, Кочубей «стал решительным сторонником английской конституции». В разные периоды своей жизни он возвращался к мыслям о возможности без революционного потрясения основ русского строя привнести в него дух законности и строго порядка, который он ощутил в Англии. Даже в правление Николая I он не оставлял надежд и представил записку о мерах предупреждения революции в России, проникнутую теми же идеями.
В 1791 году Кочубей побывал в революционной Франции, где прослушал лекции по истории литературы Ж.-Ф. Лагарпа, углубленно изучал философию и право. По возвращении в Россию в 1792 году он возобновил отношения с Павлом Петровичем, а также познакомился с екатерининским фаворитом П.А. Зубовым. Благодаря их поддержке, несмотря на колебания императрицы Екатерины II, в октябре 1792 года он получил назначение в Стамбул в ранге полномочного министра. Однако прежде чем принять предложенное ему место, он почел нужным узнать, угодно ли его вероятное назначение цесаревичу. Александр Павлович выказал свое полное удовольствие и пригласил Кочубея провести у него в Гатчине два дня.
Положение в Стамбуле было сложным. Только что окончилась война, недоверие и враждебность к России на ослабевали, турки в любой момент были готовы возобновить войну, благо польская смута этому благоприятствовала. Кроме того, французы прилагали огромные усилия к тому, чтобы вынудить Порту напасть на Австрию, которая готовила антифранцузскую коалицию, а это сулило неизбежный конфликт между Россией и Турцией. Кочубей несмотря на молодость проявил большой дипломатический такт и осмотрительность, совместными усилиями европейские послы удержали турок от войны, но необходимость решать множество мелких, в том числе пограничных конфликтов, а также торговых споров армянских и греческих купцов с турками тяготили русского посланника. В начале 1796 года он писал друзьям о намерении оставить службу, которая доставляла ему ордена и звания.
Восшествие на престол императора Павла побудило Кочубея изменить намерения. В январе 1797 года Павел Петрович подтвердил свое расположение к русскому посланнику в Стамбуле, пожаловав молодому дипломату, которому не было еще 30 лет, чин действительного тайного советника, соответствовавший чину полного генерала, и орден святого Александра Невского. Император неизменно с одобрением читал депеши из Стамбула, но одна записка о положении на южных границах России вызвала у него сильнейшее раздражение. Безбородко, умевший играть на рыцарском благородстве и чувстве справедливости императора, погасил гнев и более того, убедил Павла Петровича вернуть племянника в Россию и назначить его вице-канцлером в коллегию иностранных дел. Он был далеко не стар, но здоровье его было подорвано, главным образом алхимическими опытами, и он искал себе замену.
В июне 1798 года Кочубей был тепло принят императором, получил приглашение провести несколько дней в Павловске. Здесь он имел возможность неоднократно беседовать с Павлом Петровичем, а одна беседа состоялась в присутствии наследника Александра Павловича. По окончании беседы император сказал Кочубею, что «очень желал бы, чтобы он был при его сыне тем же, чем при нем самом Безбородко»255. Несмотря на перемены в настроениях государя в октябре 1798 года Виктор Павлович получил обещанное назначение, а в декабре при отъезде Безбородко уже полноценно управлял коллегией иностранных дел. Правда, продолжалось это недолго. В апреле 1799 года канцлер Безбородко умер, а в августе того же года, после ряда недоразумений256 в отношениях с императором Кочубей подал прошение об отставке, которая была принята. Кочубей покинул Россию, но в мае 1801 года, узнав о воцарении Александра Павловича, вернулся в Петербург, где был тепло встречен молодым императором. Государь был вдвойне доволен, когда Виктор Павлович отклонил предложение возглавить какое-либо посольство и выразил желание послужить на родине.
Таковы были немногочисленные друзья молодого императора, на которых он решил опереться в своей государственной деятельности. В мае 1801 года, через два месяца после убийства Павла I, Павел Строганов представил Александру Павловичу проект создания Негласного комитета257, а 24 июля состоялось его первое заседание с участием Павла Строганова, Николая Новосильцова, Адама Чарторыйского и Виктора Кочубея, которых император призвал помогать ему «в систематической работе над реформою безобразного (бесформенного258) здания государственной администрации»259. Положено было предварительно изучить реальное положение империи, потом преобразовать отдельные части администрации и эти отдельные реформы завершить «уложением, установленным на основании истинного народного духа».
В течение одиннадцати месяцев заседания Комитета собирались регулярно. Известно, что члены Комитета обсуждали меры по улучшению положения государственных и крепостных крестьян, даже рассматривали возможность отмены крепостного права при сохранении помещичьего землевладения. На заседаниях, в частности, предлагались преобразования в сфере просвещения, в сфере внешней политики, оценивалось состояние русской армии и флота. За короткий срок, в течение которого Комитет заседал регулярно, удалось сделать немного. К коронации Александра I, которая состоялась 15/27 сентября 1801 года, подготовили «Всемилостивейшую грамоту, Российскому народу жалуемую», в которой декларировались для дворянства и горожан свобода слова, совести, предпринимательской деятельности, неприкосновенность частной собственности, а также принципы равного судопроизводства и презумпции невиновности, право обвиняемого на защиту; заявлялось о необходимости подготовки нового Уложения и привлечения Сената и коллегий к пересмотру действовавшего законодательства. Осторожный император не решился, однако, огласить Грамоту во время коронации260. Позже он подтвердил жалованные грамоты дворянам и городам, объявленные Екатериной II. В декабре 1801 года был обнародован указ, подготовленный Негласным комитетом, о праве купцов, мещан и казённых крестьян покупать ненаселённые земли.
В течение зимы 1802 года на нескольких заседаниях Негласного комитета были выработаны принципы министерской реформы, которая была объявлена в сентябре 1802 года манифестом «Об учреждении министерств»261. Следует сразу оговориться, что принципиальных изменений в управлении государством не произошло. Главным новшеством стало назначение министров, единолично ответственных за деятельность порученных им министерств. Принцип коллегиальности, применявшийся в коллегиях, сочли неэффективным. Сами министерства предстояло создать в будущем, а пока архаичные коллегии, которые уже при Екатерине утратили свое значение, сохранялись в полном составе, но вошли в круг ведения назначенных министров в качестве департаментов. Манифестом был также создан Комитет министров как прообраз коллективного правительственного органа, но император тут же уравновесил возможность комитета стать действительно коллективным органом – министры получили право прямого доклада царю в обход комитета. Последнее слово в решении вопросов, доложенных министрами, оставалось за императором, который часто проявлял колебания, был недоверчив и непоследователен в своих реформаторских увлечениях. Даже его доверие к членам Негласного комитета подверглось сомнениям. С надежной оказией он передал письмо своему воспитателю Фредерику Лагарпу с просьбой приехать в Петербург.



