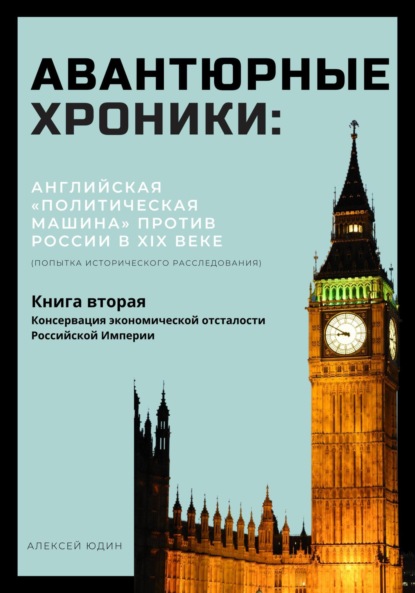
Полная версия:
Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
Эксперименты с использованием энергии пара оказались менее удачными. Как известно, Иван Ползунов построил свою машину еще в 1765 году, опередив англичан, однако его машина была не закрытого типа, а пароатмосферной, как и машина англичанина Ньюкомена, и ее не оценили в России. Заводское начальство посчитало, что при изобилии рек использование силы пара неразумно. Тем не менее Первые английские паровые машины появились в России еще при Екатерине II. Главный инженер Карронской металлургической компании Адам Смит установил в Кронштадте в 1774–1777 годах привезенную из Шотландии пароатмосферную машину Ньюкомена, которая использовалась для обслуживания сухих доков. Изготавливать первые паровые машины непосредственно в России начал приглашенный в Россию инженер той же Каронской металлургической компании Чарльз Гаскойн. Машины производились на Олонецких заводах и предназначались для откачки воды из шахт и обслуживания каналов. В 1797–1799 годах на Петербургском монетном дворе заработала уже универсальная паровая машин Уатта, также изготовленная Гаскойном. Еще одну машину Гаскойн выписал из Англии и установил на Александровской мануфактуре в качестве привода для механических многоверетенных прядильных станков. В это же время паровые машины начал производить на своем заводе в Петербурге ученик Гаскойна, Чарльз Берд. Первая машина была установлена на заводе Берда между 1792 и 1800 годами, а в 1815 году по Неве ходил первый пароход Берда. И тем не менее, появление на русских мануфактурах механических прядильных и ткацких станков, паровых машин носило эпизодический характер и не находило последователей, хотя текстильная промышленность, основанная на широком использовании механических станков, и производство паровых машин стали определять уровень технико-экономического развития стран, как до этого, в XVIII веке определяла металлургия.
Для сравнения, в Англии уже полным ходом шла промышленная революция. Механик Джон Кей в 1733 году усовершенствовал ткацкий станок, оснастив его «летучим челноком». Джеймс Харгривз в 1765 году изобрел механическую прялку «дженни», на которой можно было работать одновременно с 16–18 веретенами. Примерно тогда же С. Кромптон создал «мюль-машину», действие которой базировалась на принципах работы прялки «дженни». Мюль-машина стала прорывом в производстве тонкой и прочной хлопчатобумажной пряжи. Чуть позже Э. Картрайт создал механический ткацкий станок, который завершил процесс механизации ткацкого производства. Новый станок заменял работу 40 ткачей. В 1800 году в Англии имелось уже более 300 паровых машин общей мощностью свыше 5 тысяч лошадиных сил, тысячи многоверетенных мюль-машин и механических ткацких станков. Тогда же начался переход к изготовлению прядильных машин и ткацких станков из чугуна и железа. Этот переход дал мощный импульс развитию металлургии в Англии и появлению новой передовой отрасли – машиностроению. Широкое использование пара в качестве привода для механических станков «отвязало» промышленные предприятия от рек, создало благоприятные условия для более рационального размещения промышленности по территории страны. Но в России этого как будто не замечали: привычка полагаться на водяное колесо и дешевый ручной труд минимум еще на двадцать-тридцать лет задержали начало промышленного переворота в России.
Даже в металлургии, некогда наиболее передовой отрасли России, наметились кризисные явления: к концу XVIII века Англия резко сократила, а затем и вовсе прекратила закупать русское железо. Десять миллионов пудов русского железа оказались невостребованными. Даже в России, в западных губерниях не покупали уральское железо из-за его дороговизны. Требовалось два года, чтобы доставить чугун и железо с Урала в порты Балтийского моря, а затраты на транспортировку удорожали уральское железо в 2,5 раза и делали его неконкурентоспособным по сравнению с английским. В Англии уже в начале 1790-х годов производили 5 миллионов пудов высококачественных чугуна и железа, а к началу нового века мощности английской металлургии позволяли производить уже 10 миллионов пудов первосортных черных металлов. Английские инженеры нашли способ производства высокоэнергетического кокса из каменного угля, а главное – создали удачную конструкцию так называемых отражательных печей, в которых железная руда не соприкасалась с коксом, что позволяло избегать попадания вредных примесей, прежде всего серы, в выплавляемый чугун. За счет более высокой температуры в новых печах чугун «угорал» на 8–15 процентов, но в результате содержание вредных примесей снижалось дополнительно. Кроме того, изобретенный на Урале прокатный стан стал широко применяться в Англии для «валкования» железных заготовок, что позволило дополнительно снизить содержание в металле шлаков и вредных примесей. Производительность отражательных печей оказалась к тому же в три раза выше традиционных домен. Новый метод выплавки высококачественного железа, получивший название пудлингования, почти на 100 лет стал основным на большинстве английских и европейских металлургических предприятий. Английское морское ведомство в 1787 году объявило, что качество так называемого сварочного железа, полученного новым методом, выше, чем самого лучшего шведского. Королевская контрольная комиссия морского ведомства рекомендовала применять железо, полученное новым методом, вместо шведского для изготовления якорей и «всех железных изделий», используемых в морском деле207.
В России огромные уральские домны продолжали передел чугуна по старинке используя в качестве топлива дорогой древесный уголь, что привело к массовой вырубке лесов. Во второй половине XVIII века из-за этого пришлось закрыть в европейской части целый ряд заводов. Из 253 металлургических заводов созданных в России за весь XVIII век к началу 1800 года осталось 167 заводов208. Причем наиболее массовые ликвидации предприятий – 50 – пришлись на 34 года царствования Екатерины II. В Олонецком крае, некогда лидере по выплавке чугуна, железа и меди, металлургии не осталось совсем. В окрестностях Москвы и Тулы из 69 заводов, построенных в регионе в течение XVIII века, к 1800 году осталось всего 42 завода, на которых производилось 1577 тысяч пудов чугуна, в 4,5 раза меньше, чем на Урале. При этом, если производство чугуна и железа к концу столетия хоть и медленно, но все же росло, то производство меди сократилось со 190,4 тысяч пудов в пиковом 1767 году до 89,6 пудов в 1795 году. За два последних десятилетия века не было построено ни одного нового медеплавильного завода, в результате из 55 предприятий, построенных в течение века, в числе действующих осталось только 33 завода. Одна из причин столь резкого сокращения производства меди состояла в том, что правительство утратило интерес к чеканке медной монеты: широкое хождение к концу XVIII века получили ассигнации, которые практически вытеснили медь из обращения. Кризис в русской металлургии, начавшийся на рубеже веков, продлился более половины XIX столетия.
Ухудшение положения в металлургии в значительной мере объяснялись также отсутствием конкуренции на внутреннем рынке, что в известной мере отражало политику русского правительства, полагавшего соперничество производителей нерациональной растратой сил и средств. Кроме того, нехватка собственных капиталов, отсутствие доступного кредита служили естественными ограничителями инициативы купечества. Самостоятельно без поддержки государства строить современные металлургические заводы купечество не имело возможности. Достаточно сказать, что за весь XVIII век из имевшихся в России ста с лишним тысяч купцов в металлургию пришло всего 156 предпринимателей. Пик притока пришелся на десятилетия с 1731 по 1770 годы – 112. За последние три десятилетия века отрасль пополнили только 21 новое лицо. При этом следует иметь в виду, что из 167 вододействующих заводов 94 принадлежали шести фамилиям: Демидовым, Баташовым, Яковлевым, Мосоловым, Осокиным, Губину. На этих предприятиях производилось более половины российского чугуна и железа.
Не менее острыми оказались проблемы в ткацком производстве. Как уже отмечалось, созданные при Петре I ткацкие мануфактуры были весьма крупными предприятиями. В послепетровские время быстро запустился процесс их разукрупнения, сокращения масштабов мануфактур, перевода производственных процессов на уровень кустарных промыслов. Так, в 1753 году англичане Чемберлен и Козенс получили от кабинета Елизаветы Петровны на десять лет монопольное право строить и эксплуатировать ситценабивные мануфактуры – ткань, как правило, привозили из-за границы, хотя отдельные бумаготкацкие предприятия появились в России уже в середине XVIII века. Предприятие было построено около Петербурга. Работы выполняли наемные работники, среди которых оказался крестьянин Соков из села Иваново Владимирской губернии. Ему удалось выведать секреты составления красок, которые использовались для набивания рисунка на ткань. Вернувшись в родное село, Соков устроил небольшой собственный промысел для набивки миткалей209 благо неокрашенных тканей было в селе в избытке. Вполне естественно, что многие соседи переняли у него приемы набойки по миткалю, а потом и по ситцам.
Отношения фабрики к кустарю в набойном производстве в эту эпоху характеризовались отсутствием соперничества: и фабричная, и кустарная набойка быстро росли вследствие чрезвычайного спроса на ситцы. В это время фабриканты получали в Иванове баснословные барыши. Утверждали, например, что ивановские фабриканты нередко получали «упятеренный рубль на рубль», то есть 500 процентов барыша. В это время набойщик легко зарабатывал по сто рублей ассигнациями в месяц. Около этого времени и начали накапливаться капиталы, которые позволили многим кустарям перейти в разряд фабрикантов. Основатель знаменитой фирмы Морозовых, Савва Морозов, был простым ткачем и крепостным крестьянином помещика Рюмина. В 1797 году он устроил в селе Зуево небольшую фабрику по производству шелковых лент, затем более крупную, производившую шелковые ткани. В 1820 году он выкупился на волю со своей семьей за 17 тысяч рублей, записался в купечество и стал одним из крупнейших фабрикантов России
При этом следует иметь в виду, что различие между фабрикой-мануфактурой и кустарями было весьма условно. На бумаготкацких фабриках XVIII века ткачество производилось в самом фабричном здании. Но так как процесс ручного ткачества очень прост, а ручной ткацкий станок вполне доступен крестьянину, то фабриканты быстро убедились в том, что затраты на строительство фабричного здания неоправданны, а расходы на оплату труда ткачей-надомников вполне приемлемы. Уже в конце XVIII века появилось множество бумажных фабрикантов, раздающих пряжу по домам, а в начале XIX века домашнее ткачество вытеснило фабричное. Появилось множество фабричных контор, которые совсем не занимались фабричной работой, а лишь раздавали сырье по деревням.
К XIX веку бумажное ткачество становится преобладающим крестьянским промыслом в большинстве центральных губерний: Ярославской, Костромской, Рязанской, Калужской и др. Распространение промысла совершалось двумя способами. Чаще всего промысел заносился в новую местность крестьянами, поработавшими на ткацких фабриках других губерний. В Рязанской губернии ткацкий промысел стал развиваться особенно быстро с появлением в Егорьевске Хлудовской бумагопрядильной мануфактуры, вокруг которой образовалось множество больших и мелких ткацких фабрик и кустарных заведений.
Схожие процессы происходили в полотняном производстве. В том же селе Иваново крестьяне издревле занимались льноткачеством, выделывая грубые холсты. Когда в соседнем селе Кохме появилась полотняная мануфактура Тамеса, многие сельчане, поработав на фабрике, позаимствовали применявшиеся там приемы ткачества и научились ткать тонкие полотна. В Иванове возникло несколько крупных полотняных фабрик, устроенных местными «капиталистыми» крестьянами, заработавшими капитал торговлей. К концу XVIII века на этих фабриках научились набивать красочные холсты, но параллельно во множестве существовали мелкие кустарные набоечные избы или светелки, как их называли.
Кустарное ткачество тонких полотен в Шуйском уезде также тесно связано с полотняной мануфактурой Тамеса. В другом центре полотняного ткачества Ярославской губернии – селе Никольском – развитие ткачества тонких полотен развивалось вокруг вотчинной мануфактуры Салтыковых, которая в конечном итоге не выдержала конкуренции с кустарями и была закрыта. «Таким образом и в области полотняного ткачества, как и миткалевого, кустарь бил фабриканта»210.
Шелковое кустарное ткачество было всецело порождением фабрики. Исторически этот промысел был сконцентрирован в очень небольшом районе, преимущественно в нескольких уездах Московской губернии и прилегающих уездах Владимирской. В Московской губернии усилиями Петра I были созданы крупные шелковые мануфактуры, в том числе крупнейшие – Фряновская и Купавинская. При простоте техники ткачества шелковых тканей этот крайне выгодный промысел быстро освоили в окружающих деревнях. В одном Московском уезде у государственных крестьян было около 300 станов для тканья разных шелковых и бумажных материй да несколько сот станов для тканья флера и лент211. Так, дешевизна рабочей силы, несложность производственной техники, отсутствие необходимости в больших производственных пространствах в начале XIX века подрывали внедрение в России машинного производства.
Несколько иначе обстояло дело в производстве шерстяных тканей. Солдатское сукно в течение XVIII века выделывалось только на крупных мануфактурах. Сукна выделывались крайне низкого качества и в количестве, недостаточном для потребностей армии и флота, Приходилось покупать мундирное сукно за границей, чаще всего в Англии. Такое положение сохранилось и в начале XIX века, что вынудило московских мануфактуристов-фабрикантов также приступить к раздаче пряжи ткачам-надомникам. В 1809 году в числе поставщиков сукна для казны появились наряду с крупными фабрикантами московские и владимирские кустари. Однако, это было редкое явление. Как правило, в качестве казенных поставщиков выступали московские суконные фабрики, поскольку именно они занимались крашеньем и отделкой сукна, а суровье заготовлялось по окрестным деревням, куда были переданы почти вся ткацкая работа. Тем не менее крупные суконные мануфактуры сохранились и не подверглись тем процессам, которые были характерны для бумаго- и полотняного ткачества, но процесс проникновения технического прогресса замедлился и здесь. Забегая вперед, следует заметить, что первая механическая ткацкая фабрика в Шуе была устроена только в 1846 году.
Таким образом, можно констатировать, что на рубеже XVIII и XIX веков крепостное право выступало важнейшим негативным фактором, тормозившим технический прогресс русской промышленности. Дешевизна рабочей силы приписных и посессионных крестьян делала бессмысленными любые нововведения несмотря на то, что производительность и качество подневольного труда была крайне низки, а рынка рабочей силы, откуда можно было бы рекрутировать свободных работников, готовых заинтересованно трудится на предприятии, практически не существовало. Вместе с тем отмеченные выше сдвиги во взаимоотношениях помещика и крепостного, перевод крестьян с барщины на оброк, что было характерно для центральных нечерноземных губерний, создавали предпосылки для изменения положения. Крестьян-отходников, получивших от барина паспорт или покормежное письмо и покидавших деревню на длительный срок, иногда на несколько лет, по сути приравнивали к вольным людям. Армию вольнонаемных пополняли также купцы третьей и даже второй гильдии, которые из-за недостатка капитала были вынуждены кормиться ручным трудом, хотя чаще всего это были ремесленные занятия.
Тем не менее признаки нового в России все же появлялись. Декабрист и едва ли не первый русский экономист Николай Иванович Тургенев обратил внимание на необычное явление. В одном из своих сочинений он писал: «Помещики помещали сотни крепостных, преимущественно молодых девушек и мужчин, в жалкие лачуги и силой заставляли работать… Я вспоминаю, с каким ужасом говорили крестьяне об этих заведениях; они говорили: «В этой деревне есть фабрика» с таким выражением, как если бы они хотели сказать: «В этой деревне чума»»212.
В отличие от Тургенева в коллективном труде советско-русских историков во главе с академиком А.Н. Сахаровым дается иная, гораздо более позитивная оценка этого явления: «Одной из ярчайших особенностей экономического развития России, – пишут историки – являлось появление промышленных центров не столько в городе, сколько в селе. Так, с конца XVII – начала XVIII столетия появились десятки торгово-промышленных поселений, где население сосредоточивало свое внимание не на земледелии, а на «промыслах». Это – владимирские села Дунилово, Кохма, Палех, Мстера, Холуй, нижегородские села Павлово, Ворсма, Безводное, Лысково, Богородское, Городец, Работки, множество ярославских, костромских, тверских и т. д. сел и деревень. К середине XVIII столетия многие из них по количеству населения были крупнее, чем иной город. В селе Павлове, например, к середине века население составляло свыше 4 тыс. человек. И, по словам Страленберга, «жители этого города все суть замошники или кузнецы… известны всей России». Иначе говоря, процесс общественного разделения труда сложился так, что в каждом конкретном селе развивалась специализация преимущественно на каком-то одном виде производства. В таком селе все или почти все были либо сапожниками, либо бондарями, либо ткачами и т. д. Это было типичное мелкотоварное производство. Иногда мелкие товаропроизводители нанимали дополнительно 1–2 рабочих. С течением времени практика употребления наемного труда расширялась. Так, в городе Павлово-Вохна в 1780-х годах употреблялся наемный труд в 141 мастерской. Уже упоминавшийся историк М.И. Туган-Барановский приводит еще более разительные цифры. По его словам, в том же селе Иваново в начале XIX века самые богатые фабриканты имели свыше тысячи рабочих, и при этом все они оставались крепостными Шереметева, но имущественное расслоение между ними достигло уже громадных размеров. Фактически крупные фабриканты не только свободно владели движимым и недвижимым имуществом (хотя последнее и записывалось на имя помещика), но даже имели своих собственных крепостных. Так, например, Ивану Гарелину, как видно из его духовного завещания, принадлежало сельцо Спасское со всеми жившими в нем крестьянами213. Нечего и говорить, что такие крепостные капиталисты стремились выкупиться на волю и записаться в купечество, но помещики шла на это крайне неохотно. В дореформенное время в селе Иваново, например, на волю выкупилось около 50 крестьянских семей, причем размер выкупа достигал в среднем 20 тысяч рублей, а на их капиталах вырастали уже вполне капиталистические фабрики и заводы, на которых работали вольнонаемные люди и широко внедрялись паровые машины и механические станки. Характерным представителем этой группы крестьян был Федор Алексеевич Гучков214, дворовый надворной советницы Белавиной из Калужской губернии. Гучков, будучи еще крепостным, перебрался в Москву, устроился работать на ткацко-прядильную фабрику, перешел из православия в старообрядчество, взял беспроцентный кредит в Преображенском богаделенном доме и построил в 1789 году в Лефортово собственную суконную фабрику, выкупил на волю себя и всю свою семью и вступил в третью гильдию московского купечества.
Следует отметить, что работники, занятые в кустарных промыслах, постепенно отказывались от земледелия, ограничиваясь огородничеством, и сезонный характер производственной деятельности сменялся круглогодичным. Близость больших городов делали кустарные промыслы выгодным делом. Очевидно, что подобные сельские поселения могли существовать только в условиях все более углублявшегося разделения труда и развития торговли. Только в таких условиях можно было обеспечить устойчивое снабжение занятого некрестьянским трудом сельского населения сырьем, хлебом и потребным инструментом, гарантировать спрос на готовые изделия и их сбыт.
Примечательно, что децентрализованный характер мануфактур был характерен для конца XVIII века. Централизованные мануфактуры сохранялись главным образом в горнозаводском деле. Даже тульские оружейные «заводы» представляли собой поселение, в котором действовали кустарные мастерские, принадлежавшие 70–80 мастерам, с ограниченным набором подмастерьев и учеников. Оружейный двор, в котором предполагалось разместить общее производство после целого ряда жалоб мастеров, которым было удобнее работать в своих мастерских, был превращен в склад готовой продукции. Про организацию ткацкого дела уже было сказано выше.
Большая часть товаров «для порядочного, даже пышного образа жизни», как писал историк И.М. Кулишер, производилась ремесленниками-кустарями. В Петербурге, например, в конце 1790-х годов имелось 255 мужских сапожников, 77 женских башмачников, в немецком сапожном цехе состояло 54 мастера. В столярном цехе работали 124 мастера, в таком же немецком цехе состояло 90 мастеров. Кузнецов, русских и немецких, в столице насчитывалось 144 человека, стекольщиков – 99, каретников – 129, переплетчиков – 35, часовых мастеров – 33, из них 30 иностранцы, иностранных мастеров золотых дел – 139 человек и еще 44 русских. Помимо них были еще паяльщики, шпажники, краснодеревщики, портные, скорняки и многие другие. Ко всему этому следует добавить многочисленных подмастерьев и учеников. Примерно такая же картина наблюдалась в Москве. В губернских и уездных городах положение было похуже, приходилось за нужными покупками отправляться в столицы или дожидаться ближайшей ярмарки.
Таким образом, можно констатировать, что на протяжении XVIII века русская мануфактурная промышленность, созданная при Петре I, в большинстве своем деградировала до уровня кустарного ручного производства. Дешевый принудительный труд не стимулировал внедрение машин и передовых технологий, оставляя Россию на обочине технического и социального развития. Историк Н.А. Рожков указывал, что в начале XIX века у России был самый «отсталый» экспорт: в нем практически не было промышленной продукции, только сырьё, а в импорте преобладали промышленные изделия. Советский историк С.Г. Струмилин указывал, что процесс машинизации в русской промышленности в XVIII – начале XIX веков шел «черепашьими темпами», и потому отставание от Запада к началу XIX века достигло максимума. Он был убежден, что использование крепостного труда стало основной причиной такого положения.
К этому следует и сословные ограничения. Екатерина II была убежденной сторонницей традиционного образа жизни дворян, который исключал в ее представлении занятия торговлей и промышленностью. Только в 1786 году императрица разрешила дворянам содержать заводы и фабрики «по деревням и вести оптовую торговлю произведениями собственных хозяйств, осуществлять поставки за границу, а также предоставила им возможность входить во всякого рода откупа и подряды, свойственные дворянской собственности». Впрочем, это продолжалось недолго. Екатерина с неудовольствием смотрела на попытки дворянства заняться делом, и в 1790 году своим указом «запретила им записываться в гильдии». Нельзя исключать, что фактический запрет для дворян, самого образованного слоя русского общества того века, заниматься торговлей и промышленностью, не только затормозил промышленное развитие России, но ускорил процесс разорения мелкопоместного дворянства. Картину разорения искажала массовая раздача дворянам при Екатерине земель и крепостных: по разным оценкам, члены двора ее императорского величества получили в качестве наград более 800 тысяч крепостных. Купечество в силу бедности капиталами и в отсутствие полноценного кредита чаще всего было не в состоянии компенсировать искусственное ограничение инициативы дворянского сословия.
Кроме того, императрица с подозрением относилась к «махинам» (или «макинам» – так она называла машины). По ее мнению, «махины» наносят большой ущерб государству, поскольку лишают людей работы. При этом она совершенно упускала из виду важнейшие следствие машинного производства: резкое повышение производительности труда и порождаемую машинным производством товарную массу. И тут важно понять, насколько искренней была императрица в своих высказываниях о машинах, действительно ли она не понимала их преимуществ? Ответить на этот вопрос с позиций сегодняшнего дня практически невозможно, поэтому придется допустить, что она искренне заблуждалась, хотя плата за невнимание к техническому прогрессу оказалась для России огромной. Впрочем, Пушкин почему-то с недоверием воспринимал образ Екатерины, который она умело создавала сама, и поставил краткий диагноз: «Тартюф в юбке и короне». И тут следует напомнить, то о чем говорилось в самом начале книги. Начиная с восшествия на русский престол Екатерины II и до восьмидесятых годов XIX века русский ВВП в расчете на душу населения, главный показатель богатства страны и уровня производительности труда, стагнировал.
Внутренняя и внешняя торговля



