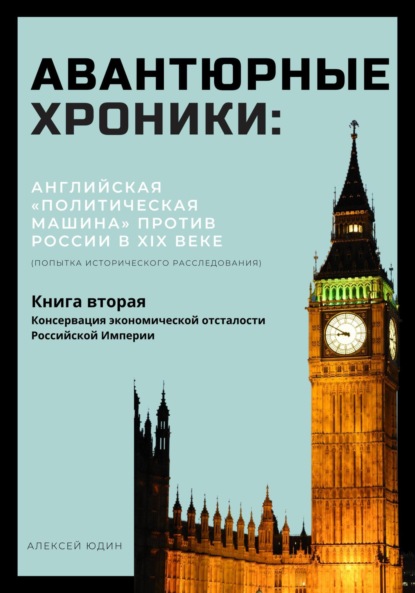
Полная версия:
Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
Наш русский универсал-полимат Михаил Васильевич Ломоносов вопросами практической экономики занимался главным образом в связи с составлением географического атласа Российской империи. Занялся он этим достаточно поздно, хотя материалы по экономике собирал в течение многих лет. В его библиотеке среди естественнонаучных и литературных сочинений было немало работ и экономического содержания. Удивительным образом к нему попал труд Посошкова «О скудости и богатстве». Возможно он имел возможность читать записки Татищева по экономическим вопросам, хотя лично они не были знакомы, но по письменной просьбе автора Ломоносов написал «Посвящение» к его «Истории Российской». Был среди его книг и Всеобщий словарь сельского хозяйства, садоводства, Топография Оренбургская и Письма о коммерции П.И. Рычкова, еще одного отечественного экономиста. Кроме того, еще в 1747 году по заказу И.А. Черкасова он выполнил перевод книги С. Губертуса по вопросам ведения интенсивного сельского хозяйства на основе опыта, накопленного в прибалтийских губерниях в полеводстве, лесоводстве, скотоводстве и т. д. Затем последовал большой перерыв до конца 1850-х годов, в течение которого Ломоносов к экономическим вопросам не обращался.
Ломоносов с удовлетворением констатировал, что в России заметны успехи в развитии промышленности: «Коль многие нужные вещи, которые прежде из дальних земель с трудом и за великую цену в Россию приходили, ныне внутрь государства производятся и не токмо нас довольствуют, но избытком своим и другие земли снабдевают»174. Вместе с тем представления об этой самой промышленности носили весьма приблизительный характер. В 1759 году Ломоносов разработал формуляр с вопросами для рассылки по всем губерниям государства. Из тридцати вопросов более половины имели непосредственное отношение к статистическому и экономическому описанию России: «… какие где по городам или по селам фабрики или рудные заводы; у обывателей какие есть промыслы, когда бывают в городах ярмарки, есть ли гостиные дворы, и откуда больше и с какими товарами приезжают, в каких ремеслах народ больше упражняется и какое в лучшем состоянии находится, по рекам, где ходят суда с товарами, не бывает ли препятствия, где по рекам есть пристани купеческие, из коих мест на оные с грузом приезжают, и до которых мест сплавливают и порожние суда назад обращаются»175 и тому подобное. Формуляр был отпечатан в 300 экземпляров, которые в январе 1760 года были отправлены по назначению. В Петербурге, несомненно, имелись разрозненные сведения по поставленным вопросам, но это была первая попытка систематизировать географические, экономические и исторические данные по всем российским территориям.
Полученные таким образом сведения Ломоносов намеревался объединить в приложении к атласу – Экономическом лексиконе российских продуктов, который позволил бы наглядно представить распределение промышленных предприятий и торговых путей по территориям. По сути, это была первая попытка изучить экономическую географию Российской империи. Ломоносов полагал, что для этого потребуются всего две простые карты: для европейской России и Сибири. В сочетании с Экономическим лексиконом создавался практически полезный инструмент, который позволял решить трудный для того времени вопрос оптимизации перевозки товаров в интересах внутренней и внешней торговли, а также развития производства. Из карт и лексикона было бы несложно составить представление о том, где (с указанием широты и долготы) какие товары производятся, в каком количестве и какого качества, о продажных ценах и имеющихся торговых путях, в том числе водных с обозначением условными значками типов используемых судов. Таким образом, заключал ученый, «не надобно будет сочинять особливых карт для каждого продукта, от чего бы произошли великие и бесконечные тома, но довольны к тому быть имеют две карты российская и сибирская; и все содержаться будет в одной книге»176. В известной мере Ломоносов солидаризировался с меркантилистами, указывая, что «благополучие, слава и цветущее состояние государства … происходит от взаимного сообщения внутренних избытков с отдаленными народами чрез купечество»177. Он даже разрабатывал идею освоения Северного морского пути для сообщения через Сибирский океан с Восточной Индией. Он первым предположил, что этот самый короткий путь из Азии в Европу со временем может стать важнейшей мировой торговой артерией, а русский Север с его богатыми полезными ископаемыми превратится в источник экономического могущества и славы России.
Под влиянием труда Посошкова в конце 1750-х годов Ломоносов задумал большой труд по вопросам экономической политики. План исследования он изложил в письме к И.И. Шувалову в ноябре 1761 года. Он предполагал рассмотреть в комплексе все сферы общественной жизни, относящиеся к экономическому поведению человека. Первый пункт плана в виде готовой записке «О сохранении и размножении российского народа» был приложен к письму. Ломоносов прямо указал, что «в этом состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности, тщетной без обитателей178.
Остальные – О истреблении праздности, О исправлении нравов и о большем народа просвещении, О исправлении земледелия, О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств, О лучших пользах купечества, О лучшей государственной экономии, О сохранении военного искусства во время долговременного мира – к сожалению, остались нереализованными.
Однако великий русский ученый-универсал не ограничивался экономической теорией. На основе его записки «Об учреждении Государственной коллегии земского домоустройства»179 через год после его смерти было создано Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домоустройства, которое вплотную занялось вопросами подъема русского сельского хозяйства. Ломоносов в записке намечал широкую программу научных изысканий в области полеводства, животноводства, лесоводства, строительства дорог и каналов, развития деревенских ремесел, издания специализированных трудов и периодических изданий по сельскохозяйственным вопросам, а также создания «контор по губерниям». Он считал, что распространение агрономических и экономических знаний среди народа должно стать основной задачей Государственной коллегии земского домоустройства. По его представлениям, новая коллегия должна была иметь на местах своих представителей, поддерживающих с этой организацией постоянную связь. В частности, они должны были бы сообщать о достопримечательных фактах и явлениях природы, а также сведения о погоде, урожаях, состоянии почв и лесов, ремеслах сельских жителей и производимых ими продуктах и т д. Материалы наблюдений Ломоносов предлагал публиковать в специальном журнале – Экономические ведомости. Главная обязанность членов коллегии, как полагал Ломоносов, «разуметь и рассуждать» присылаемые сочинения следить за иностранной литературой, а также при необходимости составлять научные труды. При отсутствии среди членов коллегии требуемых специалистов они могли бы привлекать к консультациям специалистов из других государственных учреждений, чтобы не раздувать штаты коллегии.
Предлагаемая коллегия во многом копировала принципы организации деятельности Петербургской академии наук и по сути могла стать Академией сельскохозяйственных наук. Он предлагал поручить руководство коллегией группе ученых, которую возглавили бы президент и вице-президент, весьма знающие в натуральных науках. Непременное условие ученые этого учреждения обязаны знать русский язык. Ломоносов хотел, чтобы коллегия стала подлинным центром организации сельского хозяйства России. Поэтому он выступал за право всех земледельцев независимо от сословной принадлежности вносить свои предложения по развитию сельской экономики.
Зарождающийся в обществе интерес к изучению экономической жизни России побудил Ломоносова выступить с предложением об издании при Академии наук Российских периодического органа «для нужд торгового и промышленного класса». В своем представлении в Академическую канцелярию ученый писал, что это «издание принесет пользу отечеству сообщением знания о внутреннем состоянии государства, в чем где избыток или недостаток», позволит создать возможности для накопления материалов по экономике, а также сообщать о выходе в свет новых научных изданий с краткими рецензиями. Президент Академии наук К.Г. Разумовский одобрил идею ученого, однако практического продолжения она не имела180.
В 1759 году по предложению Ломоноса было учреждено звание члена-корреспондента. Первым этого звания по его рекомендации был удостоен Петр Иванович Рычков, опубликовавший между 1755 и 1757 годами в академическом издании «Ежемесячные сочинения, для пользы и увеселения служащие» четыре статьи под общим заголовком «Переписка между двумя приятелями о коммерции…» Сын вологодского купца, П.И. Рычков был отдан отцом своим для обучения бухгалтерской науке и иностранным языкам на известную в свое время полотняную фабрику Тамеса, получил потом место при управлении ямбургскими стеклянными заводами и, 22 лет отроду, как «расторопный парень и хороший счетчик», был принят бухгалтером в экспедицию, отправлявшуюся в 1734 году для устройства Оренбургского края. В этой совершенно дикой тогда окраине империи Рычков нашел однако возможность не только заняться науками, но и приобрёл редкие даже по столичным меркам познания. Свои размышления по поводу коммерции, изложенные в «Переписке…», он отправил в Петербургскую академию наук. Труд попал в руки конференц-секретаря Академии наук, историка Г.Ф. Миллера, который настолько заинтересовался подходом Рычкова, что предложил К.Г. Разумовскому принять Рычкова в российские академики, однако незнание Рычковым латыни и еще некоторых дисциплин не позволило осуществить намеченное. Впрочем, членом-корреспондентом академии при поддержке Ломоносова он все же стал.
Почему же «Переписка …» произвела столь сильное впечатление на Миллера? Скорее всего, в рассуждениях Рычкова об истории возникновения ремесел, промыслов, искусств и коммерции, Миллер почувствовал глубокое знание предмета, вынесенное из Священного писания, исторических источников и древних историков, включая Иосифа Флавия, а также оригинальный подход к трактовке исторических событий. Кроме того, Миллера могло удивить неожиданная для столько отдаленного от столицы края осведомленность Рычкова о современных процессах в экономике Англии, Голландии, Венеции, его убежденность в важности той роли, которая принадлежит торговле в европейских странах. Отчасти это роднило его с меркантилистами, но было бы неправильно думать, что Рычков игнорировал товарное производство. Выражая сожаления по поводу того, что он не сумел достаточно полно развить свою идею о пользе торговли, он записал: «а мы впредь по предпринятому нашему намерению, сколько время и случай допустит, о том уже будем обще рассуждать и писать, что к пользе и благосостоянию нашей коммерции надлежит, то есть: какими полезнейшими мерами учредить и распространить ея внутрь и вне нашего отечества; размножить всякие заводы, манифактуры и промыслы; сочинить компании и договоры; содержать регулярные <бухгалтерские>книги, и иметь всегда готовые и верные счеты; одним словом о всем том, что есть и может быть в коммерции к общенародной пользе». В Post Scriptum к первому письму он сообщил также о намерении написать историю русской коммерции, начиная с древних славянороссов, «в чем их богатство и промыслы состояли, где были порты их и главные торги, что откуда и каким образом получали; потом когда и где и какие где начали иметь заводы и прочее: ибо сколько я сведом, почти никто единственно о сей материи еще не писывал».
Во втором письме Рычков выполнил свое обещание и дал довольно обширный исторический экскурс о развитии скифской, сарматской, славянской и славянорусской торговли, основанный на сочинениях историков Клавдия Птоломея Александрийского, Геродота, Плиния, Страбона и других. По его мнению, народы населявшие территории, которые занимает Российская империя, вели торговлю не только между собой, но и с государствами, расположенными вокруг Черного моря и даже в Леванте. Тогда торговали в основном продуктами земледелия, скотоводства, рыбных и пушных промыслов, солью, сокровищами, добытыми во время военных походов. Переходя к более близким временам, Рыков сообщил читателям, что заводы и мануфактуры, заведенные при Алексее Михайловиче приглашенными иностранными мастерами, с их смертью пришли в запустение. Однако царь Петр многое восстановил, возобновил горное дела, построил заводы на Урале и в Сибири, «и полезными уставами и учреждением для того особой Государственной Берг-коллегии, все сии дела привел в такое цветущее состояние, в котором они ныне находятся, и время от времени множатся к удивлению всей Европы».
Для развития других производство царь Петр создал Мануфактур-коллегию. К сожалению, Рычков, или точнее анонимный автор письма, не располагал соответствующей статистикой, но указал, что сможет скоро это сделать, поскольку «один токмо обещал сочиня дать мне ведомость, сколько каких заводов, манифактур и ремесел ныне в России находится, и какие товары как ко внутренней, так и внешней нашей коммерции за главные почитаются, что, где и кому продают, или куда отправляются…».
Третье письмо было совсем небольшим, чуть больше двух страниц и больше походило на рекламу торговых возможностей России. В начале четвертого письма анонимный автор выражает надежду на то, что «издание подобных сочинений должно способствовать не только к изъяснению разных частей российской коммерции, но и к споспешествованию, и приращению оной». В письме приводится краткий пересказ книги Карла Гюнтера Людогиция «Начертание полной системы купеческой с первым основанием торговой науки и с приобщение краткой истории о коммерции сухим путем и водою отправляющейся…» Рычков посчитал крайне важным ознакомить читателей с этой книгой, представляющей по сути своего рода программу подготовки коммерсантов, «чтоб она вместо чаемой прибыли не приносила невозвратного убытка». Эта программа состояла из двух частей. Первая включала истории сухопутной и морской торговли, а вторая – «знание товаров», «науки торговой», «как содержать купеческие книги». Сверх того купцу, по мысли Рычкова, надлежит знать арифметику, «чистое письмо, знание денег, меры и веса, купеческую географию, о праве торговом, о наставлении как писать купеческие письма, о клеймении товаров, о тайнописании купеческом, о грамматике, о знании манифактур и фабрик и о других науках купеческих, промыслам спомогающих»181. Дополнительно Рычков вслед за автором предлагал открыть купеческую библиотеку и «товарный кабинет». «Купеческую науку он предлагал преподавать в специализированном купеческом училище или ввести ее в университетскую программу. В заключение Рычков указал, что Людогиций издал также пятитомный Лексикон купеческий, с «описание худобы и доброты товаров». Рычков предложил подобные книги переводить на русский язык, исправляя ошибки в статьях о российских товарах и торгах.
С подачи Ломоносова и Рычкова российских дипломатов и консулов стали привлекать к изучению иноземных рынков, на которых торговали российскими товарами и товарами завозимыми в Россию, торговых законов, обычаев и правил организации торговли, вексельных расчетов. Чиновники Камер-коллегии, Коммерц-коллегии, Сената привлекались к поиску дополнительных доходов казны. В результате их изысканий появлялись докладные записки по отдельным вопросам налогообложения, развития внешней торговли, поощрения отечественных купцов к созданию коллективных обществ для самостоятельного вывоза предметов русского экспорта и закупки иностранных товаров из первых рук в целях экономии. В конце XVIII века Московском университете преподавали профессоры С. Е. Десницкий и И.А. Третьяков, которые успели поучиться в Университете Глазго, где слушали лекции Адама Смита и даже близко сошлись с ним. По возвращении они начали преподавательскую деятельность, распространяя идеи свободной торговли182. Крупные работы по экономическим вопросам оставили А.Н. Радищев, М.М. Щербатов и В.Д. Чулков.
Будучи управляющим Петербургской таможни, Радищев в своих служебных записках анализировал состояние русской промышленности. Он выступал за активизацию экспорта готовой продукции на основе всемерного развития крупных мануфактур и кустарных промыслов, но при этом исходил из того, что торговля вторична и не может рассматриваться как источник богатства, на чем настаивали меркантилисты. Он оперировал такими понятиями, как прибыль, процент, деньги, кредит, но не возводил их в область научных категорий, ограничиваясь описательным подходом и формулируя практические предложения по поводу кредитно-денежной политики и способов избегания роста цен, налогообложения, предлагая заменить подушную подать налогом с имуществ.
Заметной фигурой научного мира конца XVIII века был князь М.М. Щербатов – историк, экономист, публицист, одно время президент Камер-коллегии. С 1788 года он находился в отставке и занимался публицистической деятельностью. Тайно написанные им книги с критикой верховной власти впервые были изданы в 1858 году Вольной русской типографией А.И. Герцена в Лондоне. В самом общем виде его взгляды на вопросы экономики были сформулированы в работе «Размышления об ущербе торговле, происходящем выхождением великого числа купцов в дворяне и офицера», «Статистка в рассуждении России». Объектом его исследований предстают исключительно практические вопросы ведения хозяйства, прежде всего сельского, в котором он видел гарантию процветания государства и получения западноевропейских кредитов на цели развития экономики страны. Дворянам Щербатов рекомендовал заниматься переработкой сельскохозяйственного сырья на заведенных мануфактурах и выступал категорически против купеческих мануфактур183.
Напротив того, М.Д. Чулков, сотрудник Сената и Коммерц-коллегии, ратовал за развитие коммерции, под которой он понимал не только активную торговлю, но и производство в целом, и призывал купцов овладевать производством и предпринимательством, стимул к которому он видел в конкуренции. При этом сельскому хозяйству он отводил роль второго плана как источнику продуктов питания и сырья для промышленности. Чулков первый в России написал историю русской промышленности и торговли. Его «Историческое описание российской коммерции» были изданы на кабинетские деньги184.
Первым русским политэкономом можно, вероятно, считать Н.И. Тургенева, в известной мере повторявшим модные в Англии рассуждения о свободе торговли. В конце 1818 года Тургенев издал книгу «Опыт теории налогов». Он советовал стремиться к полной свободе торговли, энергично протестовал против высоких таможенных пошлин, утверждал, что правительство должно стараться, насколько возможно, уменьшать тяжесть налогов на «простой народ», высказывался против освобождения от налогов дворянства. При введении перемен, касающихся благосостояния всего государства, следовало, по мнению Тургенева, более сообразоваться с выгодами помещиков и земледельцев, чем купцов. По его мнению, зажиточность народа, а не существование множества фабрик и мануфактур составляет главный признак народного благосостояния. Успешность взимания налогов, кроме народного богатства, зависит и от образа правления государства и «духа народного»: «готовность уплачивать налоги всего более видна в республиках, отвращение к налогам – в государствах деспотических». Тургенев оканчивал свою книгу следующими словами: «усовершенствование системы кредита пойдет наряду с усовершенствованием политического законодательства, в особенности с усовершенствованием представительства народа».
Книгу Тургенев издал за собственный счет, а гонорары приказал направить на выкуп из тюрем крестьян, заключенных за недоимки. Современники, правда, отмечали слабое знакомство автора с деревенскими реалиями – крестьяне просто не могли сидеть в тюрьме за долги. Тем не менее книга имела небывалый для России успех, весь тираж был раскуплен за 2 месяца. В 1819 году состоялось ее переиздание. После восстания декабристов она была запрещена, а автор счел за благо скрыться заблаговременно за границей.
Иными словами, к началу XIX века интерес к экономическим и финансовым вопросам в России проявляли уже не только правительственные практики, но и столичное общество, хотя, следует признать, в гораздо большей степени его интересовали слегка завуалированные выпады против власти, намеки на возможность ограничения самодержавия. Собственно экономические вопросы даже в университетских программах не выделялись в область самостоятельного знания и могли затрагиваться в рамках изучения права или истории. Стоит ли удивляться тому, что экономистов и финансистов-практиков, получивших в России университетское образование, по сути еще не было. Исключение составляли немногие, как тот же Н.И. Тургенев, имевшие возможность пройти университетский курс за рубежом, да и мода на систематическое образование была еще далеко не повсеместной, поэтому, как правило, все признанные в России финансисты были по преимуществу иностранцами.
По словам исследователя русских финансов Н.Д. Чечулина, в этот период производительные силы были предоставлены сами себе, никаких новых отраслей хозяйства, никаких улучшений промышленной техники в это время нельзя было заметить. Между тем и крепостное хозяйство, являвшееся основой экономики России, постепенно попало в полосу длительного и, по существу, безысходного застоя. Патриархальные формы крепостного труда уже не соответствовали изменившимся общественным условиям: крепостной труд был мало производителен и невыгоден. Помещичьи хозяйства были почти бездоходны и все глубже залезали в долги, особенно в неурожайные годы, когда помещики вынуждены были поддерживать своих крестьян. На 1800 год по разным источникам было заложено от 5 до 6 процентов крепостных и помещичьих земель, но тенденция была уже очевидна – к середине века в залоге будет находиться уже две трети дворянских имений185.
Помимо прочего крепостничество представляло собой и большую политическую проблему. Александр I подтвердил манифест Петра III о дворянской вольности и екатерининскую «Жалованную грамоту дворянству», но это не снимало проблему будущности благородного, по екатерининскому выражению, дворянства, которое по традиции ассоциировалось с понятием опоры трона. Положение осложнялось тем, что в начале века конъюнктура внешних рынков зерна сложилась самая неблагоприятная, и внешняя торговля вплоть до 1840-х годов практически не росла186. Спрос в самой России в силу узости рынка и слабости транспортных возможностей был невелик, в результате из-за низких цен на зерно помещичьи и крестьянские хлеба по многу лет стояли в скирдах необмолоченными. Чуть позже, когда Россия была вынуждена присоединиться к наполеоновской континентальной блокаде Англии, основного потребителя русского хлеба, положение в деревне стало практически катастрофическим. С другой стороны, ожидание конца крепостной зависимости проникало и в крестьянскую массу. Крестьяне справедливо полагали, что раз дворянству дано право не служить, то и они уже не должны быть «крепкими своему барину». Хотя масштабных бунтов наподобие пугачевского в деревне не наблюдалось, но волнения и беспорядки то тут, то там возникали постоянно. Беспокойство о будущем, о сохранности имущества, да и о собственно жизни дополняло финансовые трудности дворянства. Объективные обстоятельства требовали ликвидировать крепостное право, но сделать это так, чтобы не лишить большинство дворянства средств к существованию, представлялось практически невозможным. Отдельными решительными мыслителями высказывались предложения выкупить всех крепостных с землями в казну – казенные крестьяне были уже по сути свободны. Однако казна была пуста, и тайная надежда превратить вольное зажиточное крестьянство в новую опору трона каждый раз оказывалась недостижимой мечтой187.
Сельское хозяйство России в начале XIX века
Примечательно, что реальной картины положения сельского населения России в начале XIX века никто не знал. Помещики по большей части многое знали о состоянии своих имений и материальном достатке своих крестьян, но общего представления о том, как реально живут в русской деревне не существовало. Сводной сельскохозяйственной статистики дореформенная Россия не имела188. Сохранились вотчинные архивы, но они представляют, интерес, главным образом, для экономической характеристики отдельных хозяйств и районов. Хотя, следует признать, их изучение началось еще в середине XIX века, а затем особенно активно в советское время, и они стали важным источником информации о положении крепостного крестьянства в дореформенное время. Большой массив данных о положении в русской деревне почти два десятилетия собирал Д.С. Милютин, товарищ министра внутренних дел, принимавший активное участие в подготовке крестьянской реформы. В начале второй половины ХIХ века, в связи с подготовкой крестьянской реформы, появилось, наконец, шеститомное исследование189, основанное на трудах редакционных комиссий, готовивших предложения для реформаторов, но и это исследование дает сведения только по имениям, где имелось не менее 100 душ крепостных, и расположенных в губерниях Европейской России.



