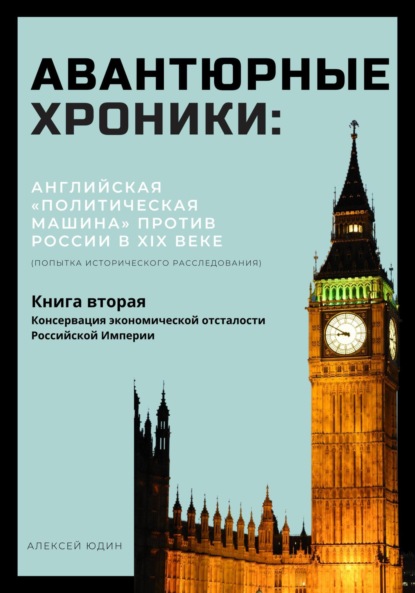
Полная версия:
Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
Продажу соли Посошков предлагал сделать свободной, поскольку «ныне в деревнях такую нужду подъемлют, что многие и без соля ядят, и оцынжав, умирают». Главный доход казны Посошков видел в продаже питей: «А питейная прибыль самый древний интерез царского величества, а не помещичий. И аще всесовершенно у всех помещиков самовластно их отнять и во всех вотчинах по пристойным местам построить кабаки, то прибыли питейные тысяч по сотнице или и больше в год прибудет». Рекомендацию Посошкова выполнил через почти двести лет С.Ю. Витте. Но Посошков шел еще дальше. Он полагал возможным радикально изменить податную систему, заменить множество древних и новых мелочных налогов, взимание которых представляло огромную сложность и было связано с повсеместным казнокрадством, единым налогом: «…да уставить един самый царственной, самый праведной збор, иже до христова воплощения установленный, то есть десятинный… и учинить тот збор постоянный и недвижимы…, чтобы со всякого товара взять пошлина единожды по гривне с рубля…». Иными словами, Посошков вплотную подошел к идее подоходного налога, который будет реализован в Российской империи только в 1916 году.
Посошков также рекомендовал делать податные послабления для купцов и заводчиков, которые вкладывают прибыль в развитие торговли и производства, для этого разослать по городам царские указы: «А буде у коих людей заведены заводы большие суконные или полотняные или бумажные или зележные или и иные, подобные сим, то таковым, буде они люди добрые, не замоты и промышленники прямыя и усердныя, то для разширения промыслов давать и по тысячи рублев и болши».
В этой же главе Посошков предложил идею денежной реформы и высказал мысли, которые делали переход к бумажным деньгам практически безболезненным. Его взгляды на деньги обычно относят к номиналистическим. Посошков считал, что в России царь по своему усмотрению может устанавливать покупательную силу денег, но только медных, разменных денег. Покупательная сила денег, с точки зрения Посошкова, не зависит от их металлического содержания и может быть установлена «по изволению его императорского величия». «У нас не вес имеет силу, но царская воля, – писал Посошков. – У нас толь сильно его пресветлого величия слово, еще б повелел на медной золотниковой цате (деньге) положить рублевое начертание, то бы она за рубль и ходить в торгах стала во веки веков неизменно». В обоснование он приводил перечеканку медных денег, когда в 1701 году вес медных денег был уменьшен (из пуда меди стали чеканить денег не на 12 руб. 80 коп., как раньше, а на 15 руб. 44 коп.). Это новшество, по всей вероятности, было принято в результате «денежного письма» И.Т. Посошкова царю164. Вместе с тем Посошков высказался против понижения пробы серебряных русских денег, славившихся на мировом рынке особой чистотой металла, предлагал всю серебряную монету перечеканить, предварительно «переплавив серебро на костях», чтобы удалить все вредные примеси.
Суммируя все сказанное в последней главе и в предыдущих главах, Посошков доказывал царю: «И аще денежное дело серебряных и медных денег обновится, к тому же и таможенные зборы и питейная продажа изменитца, то я чаю, что на самую малую цену миллиона по три, по четыре на год сверх нынешних настоящих зборов приходить будет. А аще вся вышепоказанная дела исправятца и утвердятца, то я крепко на божию милость надежен, что его императорскому величеству на кийждый год миллионов по пяти-шти и болши сверх нынешних зборов приходить будет».
Таким образом, как полагает историк Д.Н. Платонов165, ставя конечной целью доходы Российской империи, Посошков призывал к необходимости изменения всех сфер жизни русского государства. Его концепция о необходимости дополнить «гобзовитое (изобильное) богатство богатством невещественным более чем на полтора века опередила родоначальников институциональной школы экономической мысли. С одной стороны, Посошков дал качественные рекомендации по развитию внутренней и внешней торговли, показал тесную связь торговли с уровнем промышленного производства, а также обосновал необходимость вмешательства государства в регулирование отношений между помещиками и крепостными в интересах повышения продуктивности сельского хозяйства – основного источника доходов казны. Он впервые в России четко сформулировал взаимосвязь общественного богатства с благосостоянием всех членов общества – нехитрую мысль, которую в русских правящих кругах не могли постигнуть вплоть до крушения Российской империи. С другой – он показал, что экономика страны является частью воспроизводственного механизма, в котором духовность, традиции справедливости, уровень образованности всех слоев общества, доступное всесословное правосудие, высокий уровень морали, крепкая и самодостаточная семья, всесословное местное самоуправление, передовая армия и развитые институты государственного управления, в известной мере ограничивающие самодержавие, представляют собой неотъемлемые элементы общественного устройства. В совокупности все эти взаимосвязанные элементы направляют экономическое поведение субъектов экономики в интересах всего общества и его прогресса. В этом Посошков намного опередил свое время, и не случайно его труд оказался востребован только через столетие. Историк М.Н. Погодин справедливо расценил «Книгу…» не только как исторический памятник, но и «как полный трактат о состоянии России», глубокий научный труд, взгляд в будущее русского государства и общества. «Родясь за пятьдесят лет до Политической Экономии в Европе, – отмечал Погодин, – Посошков постигал живо ее правила и учил своих соотечественников только не отвлеченными положениями системы, а по действительным явлениям жизни». Посошков видел российские проблемы объемно, не допускал возможности развивать русскую модель экономики в отрыве от модернизации России. Погодин писал: «Многие важные политические меры, которыми прославились царствования Екатерины II и Александра II, были предложены уже Посошковым». К этому следует добавить, что многие задачи, сформулированные Посошковым, не решены в России до сих пор.
Посошков на полвека опередил и Адама Смита с его главным образом идеологическим «Исследованием о природе и причинах богатства народов» (1776), которое отождествило богатство с золотом. В своем труде Посошков проявил себя как настоящий исследователь, озабоченный не утверждением какой-либо концепции, а поиском истины. Заслуга Посошкова состоит в том, что он правильно понял основные задачи современной ему эпохи, сформулировал главные алгоритмы их решения и, если бы они были поняты и приняты его современниками, судьба России имела бы шанс сложиться по-другому. Увы, он слишком намного опередил свое время, современное ему общество было абсолютно не готово воспринимать советы опытного практика и глубокого мыслителя. Более того, труд Посошкова остался неизвестен его современникам, и его последователям пришлось начинать работу заново.
Через 8 лет, в 1733 году Василий Никитич Татищев русский инженер-артиллерист, строитель и начальник горных казенных заводов на Урале и в Сибири, историк, географ, экономист, автор «Истории Российской» – первого капитального труда по русской истории – завершил свой менее известный труд – «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищах». Забегая вперед, следует подчеркнуть, что современникам тоже не удалось ознакомиться с «Разговором…» при жизни Татищева: книга была опубликована только в 1787 году. В книге Татищев попытался изложить систему своих политико-философских взглядов на роль науки и образования в общественном развитии и затронул некоторые экономические аспекты. Сам термин «экономика» Татищев впервые ввел в научный оборот именно в этой работе. Рассуждая о наиболее востребованных науках, на второе место после «речения» он поставил экономику, хотя предпочитал ему более понятный термин – «домоводство»: « К пребыванию нуждно учиться, чем бы плоть свою и свой род содержать и сохранить, для котораго по природе нам нужно, как прежде сказал, о имении, пище, одежде и жилище спокойном прилежать, оное добрыми и правильными способы приобретать, а приобретенное з добрым порядком употреблять и сохранять, дабы в случае нечаяннаго недостатка нужды не терпеть. И сие имянуется домоводство, гречески оекономия». Следует сразу сказать, что далее по ходу изложения он к этой науке не обращается, ограничившись довольно туманным ее определением и не обращая внимания на всю совокупность «домоводств», образующих государственное хозяйство. До Татищева термин «хозяйство» в научных трудах тоже не употреблялся, да и само представление об экономике как о комплексе взаимосвязанных элементов общественного устройства существовало в мало кому известном тогда труде Посошкова. Нельзя исключать, что Татищеву что-то было известно о «Книге…», поскольку позднее в его работах отчетливо проявились идеи, высказанные Посошковым. На эту работу Татищеву потребовалось более двадцати лет и только в последнее десятилетие своей жизни он написал несколько больших записок, в которых во многом повторил теоретические изыскания Посошкова.
В 1742 году Татищев пишет, казалось бы, ничем не примечательные «Краткие экономические до деревни следующие записки». В «Записках…» рассматривалась организация частного помещичьего хозяйства, которую Татищев назвал «экономией». На этом этапе татищевская теория оставалась в рамках единичного производства, но микроэкономический анализ стал более детальным. Так, определив норму держания крупного и мелкого скота для одного крестьянского двора, ученый заметил, что, если кто имеет больше, то «тем докажет свое доброе хозяйство и домоводство»166. Впервые в истории отечественной мысли появляется понятие «хозяйство», которое ученый отделил от, собственно, «домоводства», однако не дал ему четкого определения, хотя можно предположить, что он имел в виду добрые методы ведения помещичьего хозяйства, да и любого частного «домохозяйства» вообще. По его мнению, «не тот богат, кто их167 имеет много, и еще желает, и не тот убог, кто их имеет мало, мало же скорбит о том и не жалеет, а богат, славен и честен тот, кто может по пропорции своего состояния без долгу век жить и честь свою хранить и быть судьбою довольным, роскоши презирать, скупость в доме не пускать»168. С одной стороны, Татищев всегда выступал за обогащение народа, а с другой – его идеал «богатения» выглядит достаточно разумно и сбалансированно с точки зрения православного человека.
В 1744 году Татищев написал «Напомнение на присланное расписание высоких и нижних государственных и земских правительств». Ранее, в 1743 году Сенат обсуждал проект нового деления империи на губернии. Формулируя свои принципы административного деления государства, Татищев не мог не коснуться некоторых общетеоретических проблем. Он писал о пользе знаний и, в частности, «о мудрости экономии, яко части политической»169. По сути, речь шла об экономической политике и ее конкретных направлениях, которые Татищев определил как «способы».
Предложения – «способы» ученого довольно конкретны. Прежде всего – «умножение народа». Правда, демографические проблемы в неявной форме фигурировали у Татищева еще в «Разговоре двух приятелей о пользе науки и училищах"(1734). При этом «умножение народа» он рассматривал не как простой рост народонаселения. Он имел в виду его «качественное совершенствование», о чем еще в «Разговоре двух приятелей…» писал: «Я же рад и крестьян иметь умных и ученых».
Второй «способ», ведущий к процветанию государства, состоит по Татищеву «в довольствии всех подданных». Вслед за Посошковым идея народного «достатка» становится у Татищева центральной проблемой, неразрывно связанной с «достатком» государственным. Поэтому государство, по мнению Татищева, должно принять меры, которые дадут «побуждения и способы к трудолюбию, ремеслам, промыслам, торгам и земским работам»170. Как и Посошков он не выделяет какое-то одно направление экономической политики правительства, а рассматривает народное хозяйство в комплексе в отличие от европейских меркантилистов или физиократов, акцентировавших приоритет внешней торговли и связанной с ней промышленностью или сельского хозяйства соответственно.
Другая мера государства должна быть направлена «во умножении всяких плодов от животных до росчений». И в этом не стоит усматривать влияние физиократов, поскольку динамичный рост ремесел, промыслов, то есть неземледельческнх занятий и торговли напрямую связан с уровнем продуктивности сельского хозяйства, имеющего возможность не только прокормить растущее неземледельческое население, но и предоставить необходимое промышленности сырье.
Другие «способы мудрости экономии» состоят «в научении страху божию и благонравию», «в умеренном употреблении имения» или имущества. Согласно Татищеву, естественные законы, регулирующие поведение людей, основаны на «божественных». Об этом Татищев писал еще в "Разговоре двух приятелей…». В каждом человеке «непрестанное желание к приобретению благополучия от Бога в нас вкоренено», то каждый имеет право «все ко оному принадлежащее снискать, приобретать и сохранить, но с разумом и добрым порядком» (Тат., 1979, С.118). Не очень полагаясь на «разум и добрый порядок», науками и училищами внедренный в природу человека, Татищев призывал власть стать не просто создателем необходимых условий, в том числе экономических, но и быть гарантом «неприкосновенности» чести, имущества, условий удовлетворения потребностей. При этом, однако, государство, по Татищеву, обязано осуществлять свои полномочия в определенных пределах, которые «подсказаны» самой природой человека.
Почти одновременно с «Напомнением» и другими сочинениями Татищев продолжал работать над научным словарем. К середине лета 1745 года ученый завершил тот вариант словаря, который тремя частями вышел в 1793 году как "Лексикон российской исторической, географической, политической и гражданской". Он представляет собой первую, хотя и не завершенную171, попытку создания в России научного словаря. Это самый большой самостоятельный научный труд Татищева после «Истории Российской». Важнейшей особенностью этого труда является его информационно-практическая направленность, временами доходящая до пределов детализации.
Словарь содержит множество экономических категорий и понятий, отражающих хозяйственную деятельность. Вместе с нсторико-экономическими категориями Лексикон содержит примерно 44 термина, относящихся непосредственно к экономике: «акция», «аренда», «артель», «банк», «банковское письмо», «банкрот», «дань», «деньга», «доимка», «должник», «домоводство», «достаток», «завод», «заклад», «интерес», «казна» и другие. Примечательно, что термин «домоводство» или «економия» в Лексиконе прописан достаточно четко: «Домоводство есть особливое искуство в поступке и содержании дома и имения, на котором зависит наше внешнее благополучие». Татищев разделяет его на «домоводство государское» и «домоводство подвластных» Первое охватывает сферу управления государственным имуществом, доходами и расходами через Камер-, Штат-, Ревизион-, Коммерц-, Берг-, Мануфактур-коллегии. «Домоводство подвластных» управляется разными уставами «дабы подданые безпутными прихотьми себя и государство не разоряли, яко уставы о неношении золота и серебра…» Приводятся примеры полезных уставов, как например, об отдаче денег в рост, а также о необходимости учета доходов и расходов в «економических» (бухгалтерских) книгах. Таким образом, уже в 1740-е годы усилиями Татищева были заложены определенные основы понятийного строя отечественной экономической науки, но востребованы они были только в самом конце века, когда его сочинения, наконец, увидели свет.
В конце сороковых годов Татищев пишет два в определенной степени итоговых сочинения. Первой работой стали «Рассуждения о ревизии поголовной и касаюсчемся до оной», написанной в1747 году, а уже через год в 1748 году появилось «Представление о купечестве и ремеслах». Работы эти органично дополняют друг друга и еще раз подтверждают подход Татищева к исследованию домоводства как целостного организма, в котором отдельные хозяйства, взаимодополняя друг друга, образуют сложную, многоуровневую систему национального хозяйства.
В «Разсуждении…» Татищев обратил внимание на национальное домоводство как на источник финансовых ресурсов государства. Татищев поставил ту же проблему, которую до него рассматривал Посошков: о «сносной»172 для населения системе налогообложения, главное условие которой – равное положение всех подданных перед агентами власти. Он предложил свое деление «дани», то есть налогов, на «окладные» и «неокладные», и хотя содержание этих терминов с течением времени менялось, их применяли в финансовых органах Российской империи вплоть до 1917 года. Первый вид налогов, по Посошкову, предназначен для финансирования определенного постоянного расхода и потому может быть зафиксирован в определенном объеме с некоторым запасом на непредвиденные обстоятельства (поскольку соответственно ему «росход окладной учреждается»). Неокладные налоги идут на финансирование переменных по объему расходов («числом неизвестные») и могут носить не постоянный характер и зависеть от влияния конкретных условий (торговые пошлины, доходы от промыслов и рукоделий…, которые «от многих причин пременяются»). Задача государства состоит в умелом управлении доходами и сокращении расходов («благоразсуднаго тчания ко умножению привильных и вновь приобретенных доходов или умаления расходов»). Он писал: «В разположении дани есть главное разсмотрение, чтоб оное было сносное и всем подданным уравнительное, на потребные расходы достаточное, как о том единый славный философ написал: подати в государстве подобны балласту на корабле, великие погружают, а малые от опровержения удержать не могут и пр.» Размер окладных и неокладных податей, как утверждает Татищев, должны время от времени пересматриваться с целью увеличения «правильных» доходов или их сокращения в соответствии с возможностями плательщиков податей.
Татищев систематизировал в записке способы увеличения доходов казны. Самый простой способ состоит, по его мнению, в увеличении числа подданых. Самый сложный представляет собой проведение продуманной экономической политики (учреждение в государстве доброй економии или домостроительства), смысл которой состоит в облегчении крестьянского труда при одновременном росте «плодородия в житах, в скотах и протчем умножить». Для этого требуется последовательно бороться с бесхозяйственностью при соблюдении законности и справедливости, и умеренности в потреблении. Следует заботиться об «умножении рукоделий или гречески манифактур» особенно таких на которых можно перерабатывать отечественное и привозное сырье в готовые изделия, «дабы за работы оных свои подданые, а не чужие получали». «Главнейшими и полезнейшими» Татищев считал металлургические и горные мануфактуры. Он предлагал «умножать и приводить в доброе состояние внутренний и внешний торг» на базе правильных законов и наставлений при обеспечении максимальной свободы и защиты отечественного купечества, «ибо сие есть корень и основание всех богатств и доходов в государстве»173. С этой целью Татищев предлагал строить за счет казны дороги, благоустраивать водные пути, налаживать почтовое сообщение, обеспечить безопасность перемещения людей и товаров, создать специализированные учебные заведения и способствовать распространению знаний «законов божия и гражданского главное». Он предлагал в мирное время для сокращения расходов на содержание армии привлекать ее к общественным работам. Важнейшим условием успешного развития государства Татищев считал обеспечение законности и правосудия для пресечения любых противоправных действий в интересах «спокойство и тишину в подданых возстановить». Тем самым можно будет, как полагал Татищев, предотвратить исход подданых за границу и опустошение территорий. Более того, он полагал возможным приглашать иностранцев для заселения пустошей. Татишев считал важным «для помощи купечеству и умножения от того доходов» создать банк, который был бы в состоянии кредитовать «под умеренный рост» строительство фабрик, расширение торговых операций в целях получения дополнительных пошлин.
Как полагал Татищев, в случае реализация его программы «весьма много можно доход государственный, следственно, богатства, силы и славы приумножить», однако в качестве немедленной задачи он выдвигал пересмотр «земских податей», которые стали основной причиной «деревенского оскудения». Он предлагал использовать очередную ревизию крепостных не только для подсчета ревизских душ, но и для изучения положения в деревне, учета местных условий и особенностей. Для этого он разработал специальный вопросник, состоявший из почти двухсот пунктов, а также сформулировал рекомендации по организации ревизии. В частности, он рекомендовал использовать для проведения ревизии не штатных офицеров, а местных отставных офицеров из числа дворян. Он писал: «Если ревизия сим порядком будет оправляться, то опасно, чтоб не было вреда и разорения народа, а в доходах усщерба, нежели пользы, последовало».
Таким образом, к концу 1740-х годов Татищев пришел по сути к тому же результату, что и И.Т. Посошков. В отличие от меркантилистов и физиократов он не выделял в своей экономической программе какие-то отрасли народного хозяйства в качестве приоритета. Рассуждая о налогах и способах увеличения их массы, Татищев пришел к выводу о тесной взаимосвязи всех элементов национального хозяйства: «оные так, яко цепь, с сими связана и един другому видимо и не видимо помогает и вредит и во всех многаго исправления требуется». Отсюда с неизбежностью вытекала татищевская идея «домостроительства», то есть активной роли государства в устроении «доброго домоводства».
Идеи, сформулированные Татищевым в «Разсуждении…», получили дальнейшее развитие в его последнем экономическом сочинении: «Представление о купечестве и ремеслах». В «Представлении…» он еще раз подтвердил, что не является последователем меркантилистов, указав в самом начале: «Всем искусным в гражданстве известно, что всякой области богатство, сила и честь происходят единственно от принадлежности народа к рукоделиам и доброго состояниа купечества». При этом к рукоделиям Татищев относил и крестьянское хозяйство, как источник избыточного товара. «Когда купец богат, то охотно от крестьянина его рукоделием и трудом приобретенное купит и дороже заплатит, чрез что крестьянин не только владельцу и государю надлежасчее без тягости заплатит, но и сам предовольно имеет». Таким образом, источником богатства, согласно Татищеву, является исключительно «рукоделие», поскольку купечество ничего не производит, а оказывает услуги по «перемещению» богатства и превращению его из товарной в денежную форму. «Купцы, всюду развозя, требуюсчим продают и, на избытки оных меняя, всех довольствуют», включая государство, получающего свою долю богатства в виде пошлин и налогов. Следует обратить внимание на идею Татищева о том, что источником богатства является не всякое рукоделие, но растущее, высокопроизводительное. Высокая продуктивность – основа тех «избытков», которые образуются в «рукоделиах» и которые и становятся материальной основой роста внутренней торговли, а также и внешней.
Татищев приводит исторические примеры заботы русских государей о купечестве, начиная с князей Олега, Игоря, Святослава в X веке, которые «в договорех с императоры греческими, хотя оные до войны, мира и союзов касались, но купечестве нуждное внести не оставили». Не отставали от них и цари русские, но «понеже по естеству все дела человеческие сначала никогда в совершенство приведены быть не могут, но требуют от времяни до времяни исправления, дополнки и пременения», то Татищев счел необходимым сформулировать рекомендации по улучшению условий внутренней торговли, в том числе своевременного извещения купечества о сроках проведения крупных ярмарок, о «товарных нехватках» и ценах, установления постоянного почтового сообщения. В области внешней торговли, которая «наибольшее богатство и пользу приносит», он был вынужден констатировать, что торговые связи с Китаем, Персией, Бухарой, Турцией, Польшей и Силезией «все оные в великий безпорядок пришли, так что от оных многие главные купцы вконец разорились и доход казенной умалился». Он, однако, не усмотрел больших сложностей «в полезное состояние привести, видится, нетрудно, если токмо искусных прилежное разсмотрение и учреждение не оскудеет». Гораздо большее беспокойство у Татищева вызывало состояние и количество мануфактур, «кои есть основание торгу», пришли в плачевное состояние, а купечество не проявляет заинтересованности в строительстве новых, не располагая достаточным капиталом и не имея возможности пользоваться доступным банковским кредитом. Татищев обратил внимание на недостатки организации вексельного обращения в Империи, хождение множества поддельных векселей, массовые банкротства купечества и шляхетства, на злоупотребления со стороны купечества с откупами и подрядами, которые тоже стали серьезной причиной разорения торгового люда и хищений казенных доходов.
Вершиной научного творчества Татищева, по оценке Д.Н. Платонова, стала его удивительная попытка составить схему функционирования национального хозяйства, взаимосвязь ячеек «рукоделия», в том числе сельских, и ячеек потребления через сферу обращения, принося «довольство» всем субъектам национальной экономики. Однако, как представляется, более важно то, что Татищев, также как и Посошков, выявил высочайшую степень зависимости общественного хозяйственного механизма от гармоничного взаимодействия всех общественных институтов и призывал к их непрерывному, «от времяни до времяни», совершенствованию и подстройке. К сожалению, русское общество середины XVIII века было еще не готово воспринимать достаточно радикальные идеи первых отечественных экономистов, сочетавших общетеоретические изыскания с конкретными практическими выводами, представлявшими собой комплексные программы совершенствования национального хозяйства и общества. Вероятно, по этой причине сын Татищева, у которого хранились все труды отца, созданные в конце 1740 годов, не торопился с их публикацией.



