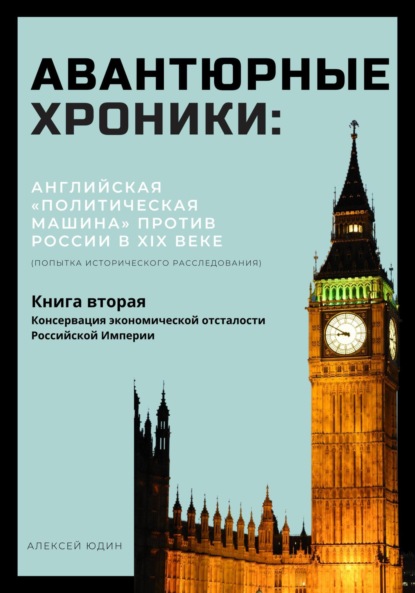
Полная версия:
Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
Современные историки149 в целом дают похожие цифры, обращая внимание на то, что Арсеньев упустил в составе населения казачество, доходившее до 1,4 миллиона человек.
Уровень экономического развития
Вступая в XIX век, Россия заметно отставала от Англии по уровню экономического развития. Данные по ВВП России на конец царствования Екатерины II, то есть на 1796 год, приводят С. Бродбери и Е. Корчмина в своем уже цитированном исследовании. Внешне все обстояло неплохо. ВВП России в абсолютном выражении составлял 33,51 миллиардов международных долларов США 1990 года против 20,28 миллиардов тех же долларов для Англии. Однако показатель ВВП в расчете на душу населения, то есть самый обобщенный показатель уровня национального богатства и производительности общественного труда, в Англии составлял 2028 долларов США, а в России не достигал и одной тысячи долларов – 896 долларов США 1990 года. При этом следует учитывать (см. график на стр. 3), что до начала 1760-х годов этот показатель в России был гораздо выше – 1200–1300 долларов, но затем началось его неуклонное снижение, которое продолжалось в течение всего царствования Екатерины Великой150. На первый взгляд проблема заключалась в том, что темп роста народонаселения в этот период, в том числе за счет присоединенных территорий, составлял 1,46 процента в год, а темп роста ВВП упал с 1,34 процента в период между 1690 и 1760 годом до 0,64 процента в год после 1760 года151.
Забегая вперед, следует отметить, что к началу царствования Александра I падение ВВП в расчете на душу населения прекратилось. Рост ВВП в абсолютном выражении вернулся к 1,31 процента в год, но и численность населения России росла примерно таким же темпом – 1,28 процента в год. Такое положение сохранялось вплоть до 1840 года. Иными словами, в этот сорокалетний период ВВП России в расчете на душу населения стагнировал, а в Британии и других европейских странах уровень экономического развития непрерывно рос. Тренд продолжился и в следующие сорок лет, вот только темпы роста обоих показателей в России снизились до 1,07 и 1,13 процента соответственно. В итоге к 1880 годам ВВП Британии в расчете на душу населения превысил 4000 международных долларов США 1990 года, а в России он оставался на уровне менее 1000 международных долларов США 1990 года152. При этом следует иметь в виду, что даже к концу XIX века две трети ВВП России создавалось в аграрном секторе, а в Британии примерно по трети ВВП давали сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг. Таким образом, в период от кончины Петра I до начала 1880-х годов, то есть на протяжении более полутора веков, экономическое развитие Российской империи остановилось, а девятнадцатый век вошел в экономическую историю как период «великого расхождения» —западноевропейские страны и США совершили резкий экономический скачок, намного опередив в промышленном развитии остальной мир153. Как представляется, объяснять такое парадоксальное явление исключительно опережающим ростом народонаселения Российской империи по крайней мере недостаточно.
Причину замедленного экономического развития России в этот период историки и экономисты по советской традиции ищут в крепостном праве, хотя при Петре I его никто не собирался отменять, да и в Америке рабство отнюдь не мешало ее бурному прогрессу. Предпринимаются попытки объяснить этот феномен противоречием между интересами элиты и потребностями развития – боязнь потерять власть якобы вынуждала самодержавие и дворянство тормозить промышленное развитие. Однако конкретный механизм торможения остался не прояснен. Традиционно указывают также на бедность России отечественными капиталами, узость внутреннего рынка, отсутствие у нее колоний, из которых европейские государства вывозили огромные богатства, наконец, на климат, не дававший возможность получить существенный прибавочный продукт и порождающий специфический русский характер, способность русского человека переходить от взрывной активности к длительным периодам полусонного состояния154. Последние аргументы представляется объективно обоснованными, но тоже не позволяют до конца раскрыть логику причинно-следственных связей, составить целостную картину эпохи, в которой экономическое развитие России замерло. Вероятно, большее приближение к истине демонстрируют те историки, которые указывают на «леденящий кровь ужас», включенный в психологию и самоощущение русского дворянства на генетическом уровне после ураганных реформ и произвола Петра I. Больше столетия на русском престоле не могли удержаться цари и царицы, у которых окружение замечало черты сходства с царем-реформатором. Народ, все без исключения сословия нуждались в длительном отдыхе, в стабильности, в восстановлении душевного равновесия. Застой стал реакцией на петровские реформы, остановилось все, замерла общественная мысль, наука, образование, технические и экономические знания с большим трудом проникали даже в наиболее передовой слой русского общества – дворянство.
Начальное образование в России
Как представляется, где-то в середине царствования Екатерины II блеск русского двора перестал закрывать от нее неустройство России, слабость ее хозяйственного механизма. До конца дней она сохранила недоверие к «махинам», которые уже начинали внедряться в Британии и некоторых европейских странах, но что-то следовало предпринять, чтобы оживить русскую экономику. В мае 1780–го года Екатерина встречалась в Могилеве с австрийским императором Иосифом II. Помимо обсуждения совместных планов в отношении Оттоманской империи император и императрица много говорили об образовании. Иосиф II очень гордился своей реформой австрийского начального образования, которая считалась самой передовой в Европе. Екатерина помнила, что в 1750-х годах Иван Шувалов, фаворит Елизаветы Петровны, и Махайло Ломоносов попытались провести масштабную реформу русского образования, которая предусматривала создание многоступенчатой сети учебных заведений, включая уездные школы, губернские гимназии и университеты в больших городах. Тогда удалось открыть только Московский университет. Смерть императрицы остановила реформу в самом начале. Екатерина отнеслась к проекту с настороженностью и согласилась только открыть в 1864 году Смольный институт благородных девиц и Воспитательное общество благородных девиц.
Колебания императрицы, по всей видимости были связаны с тем, что у нее перед глазами был пример Французской революции и памфлетные кампании, «раскачавшие» чересчур грамотную городскую бедноту. Кроме того, в вопросах начального образования петровские реформы создали полный хаос. Взгляды царя Петра на эти вопросы менялись достаточно быстро. В 1714 году появился его первый указ: «Послать во все губернии по несколько человек из школ математических, чтоб учить дворянских детей, кроме однодворцов, приказного чина цыфири и геометрии, и положить штраф такой, что невольно будет жениться пока сего выучится. И для того о том к архиереям о сем, дабы памятей венчальных не давали без соизволения тех, которым школы приказаны». Поскольку в следующем 1715 году в Петербурге на базе московской Школы математических и навигацских наук царь Петр создал Морскую академию, из которой предполагал сделать привилегированное образовательное учреждение для детей дворян, в цифирные школы было разрешено новым указом, состоявшим из всего одного предложения, брать детей всех сословий: «Взять из школы от господина адмирала155 таких, которые географию и геометрию выучили и послать во всякую губернию по два человека, для науки молодых ребяток изо всяких чинов людей». Такие указы Петр I писал почти каждый год. В губерниях к ним относились по-разному, но порядка не было нигде. В 1726 году, уже после кончины царя, новый указ императрицы Екатерины I, констатировал: «…из губерний и провинций «рапортами объявили», что в цифирных школах с начала их деятельности по 1722 год было учеников в присылке 1389 человек, из того числа выучено 93 человека, а за тем оставшиеся едва не все синодальной команды бежали»
При преемниках царя Петра дела обстояли не многим лучше. В правление Анны Иоанновны в июле 1731 года был образован первый кадетский корпус. Это было военно-учебное заведение закрытого типа, «состоящее из 200 человек шляхетских детей от 13 до 18 лет как российских, так и эстляндских и лифляндских провинций». В соответствии с указом императрицы Анны Иоанновны шляхетских детей следовало обучать «арифметике, геометрии, фортификации, артиллерии, шпажному действу, на лошадях ездить и прочим к воинскому искусству потребным наукам». Следующий кадетский корпус, получивший название Морской, был учрежден в Петербурге только в 1752 году.
Ввиду недостатка учебных заведений для дворянских детей именным указом императрицы от 9 февраля 1737 года «О явке недорослей в Санкт-Петербурге к Герольдмейстеру…» дворянам разрешили самостоятельно выбирать форму обучения детей. Высшее дворянство, как правило, приглашало детям иностранных гувернеров или русских учителей на дом. Среднепоместные и мелкопоместные дворяне не располагали такими возможностями и зачастую обучали своих детей вместе с детьми ближайших родственников и соседей на дому, наняв общего учителя. Часть дворян отдавала детей на обучение в частные пансионы.
О том, что представляли собой частные пансионы в России известно немного. Некоторое представление о развитии пансионного образования, дает работа историка А.В. Емельяновой из Уральского федерального университета. Она изучила сто мемуарных источников, в которых обнаружила только шестнадцать рассказов об обучении авторов в пансионах, что само по себе говорит о распространенности этого вида учебных заведений. При этом ей удалось обнаружить упоминания о пансионах не только в двух столицах, но и в самых разных городах, таких, как например, Богородицк в Тульской губернии. В Петербурге в середине XVIII лучшим пансионом считался пансион Ферре, который одновременно учительствовал в Кадетском корпусе. В северной столице упоминаются еще шесть пансионов: пансион де Вильнёва, который тоже считался одним из лучших, поскольку де Вильнёв когда-то обучал наукам юного шведского короля Густава III; госпожи Ленк; пансион Массона, преподавателя Инженерного кадетского корпуса; «девичий пансион» сестер Бардевиг для мальчиков; пансион Вейдемейера и пансион Вентурини. В Москве, помимо университетского пансиона, упоминают пансионы Утгова, француженки госпожи Форсевиль и пансион господина Келлера. В мемуарах действительного статского советника Я.И. де Санглена содержатся сведения о том, что обучение даже в столичных частных школах в конце XVIII века приносило мало пользы. В Оренбурге Г.Р. Державин обучался в пансионе Иосифа Розе. По всей видимости, это был не самый плохой пансион. В Симбирске было в то время несколько пансионов, включая пансион француза Манженя, бывшего офицера французской армии Лорансеня, отставного поручика, воспитанника Сухопутного кадетского корпуса Ф.Ф. Кабрита. В Смоленске в 1770-х годах был популярен пансион француза Эллерта. В Уфе нечто вроде пансиона держал «ссыльный с рваными ноздрями, куда ходили учиться дворянские дети». В Калуге в конце века существовал пансион Б.Б. Шадена, известного профессора Московского университета. Бывали пансионы и при больших монастырях, в частности при Благовещенском женском монастыре в Полтавской губернии, и даже в больших селах, как например, пансион киевского студента Барлуя в селе Лобки Погарского повета Малороссии. Об уровне преподавания и программах пансионов можно только догадываться. В воспоминаниях действительный статский советник В.Н. Геттун обращает внимание на то, что «в сем пансионе учили только читать и писать по-русски, даже и начальных правил арифметики не преподавали».
Положение в цифирных и гарнизонных школах со временем менялось мало. В указе Сената 1744 года приводились данные из доношения Адмиралтейской коллегии о количественном и социальном составе учащихся гарнизонных и цифирных школ, в которых преподавали разосланные из Адмиралтейства учителя. В Смоленской гарнизонной школе из 78 учеников дворянских детей было 5 человек, «служилых чинов» – 72, подъяческий – 1; в Казанской гарнизонной все 484 ученика были офицерскими и солдатскими детьми. В Новгородской же цифирной из 56 учеников 54 были детьми солдат … «из дворян архиерейских» числились двое. В Белгородской подьяческих числилось 2 человека, в Костромской наряду с 35 детьми дворян училось двое детей солдат, всего 37; в Юрьеве Польском – 18 детей дворян; в Свияжске – из 18 учеников дворянских было 10, солдатских 3, приказного чина 5; в Твери – «дворянских, офицерских и драгунских» обучалось 16 человек. Подводя итоги, Адмиралтейская коллегия констатировала в своем доношении, что во всех перечисленных школах, гарнизонных и цифирных, бывшие навигаторы обучали 709 учеников, причем среди них не числилось ни одного из детей посадских людей, подьяческих имелось всего 8 человек, для детей солдат открыты гарнизонные школы. Исходя из этого коллегия доносила Сенату, «что оным учителям, за неимением из дьячьих и подьяческих детей учеников, и быть не у чего»156.
В царствование Петра I начали появляться церковно-приходские школы – начальные школы, состоявшие в ведении духовного ведомства, то есть Святейшего правительствующего синода. В соответствии с утверждённым в 1721 году «Духовном регламенте» было предписано учреждать всесословные училища при архиерейских домах и монастырях. Церковно-приходские школы предназначались для обучения грамоте, счёту и Закону Божьему детей из семей с низшим доходом. В них совместно учились мальчики и девочки. При двухлетнем обучении добавлялся курс истории
После встречи с Иосифом II императрица Екатерина II навела справки и убедилась в том, что австрийский император ее не обманывал, в Европе его реформу считали наиболее удачной. Из Австрии в Петербург был приглашен Ф.И. Янкович де Мириево, занимавшийся созданием народных школ в славянских провинциях австрийской империи. Он был серб по происхождению, православного вероисповедания и хорошо знал русский язык. Янкович прибыл в Петербург в августе 1782 года, а в сентябре указом императрицы была создана Комиссия по учреждению в России народных училищ. Задачу Комиссии Екатерина сформулировала следующим образом: разработать устав народных училищ, написать учебные книги, подготовить учителей, открыть школы по всей империи.
Уже 21 сентября 1782 года Комиссия представила «План к установлению народных училищ в Российской империи», которым было предусмотрено открыть во всех городах страны сеть всесословных государственных народных малых, средних и главных училищ. К плану прилагалась программа обучения с перечислением предметов обучения. Через неделю Екатерина план утвердила. В малом училище обучение было рассчитано на 2 года, в среднем – на 3 года, в главном – на 4 года. В малых училищах предполагалось обучать Закону Божию, чтению, письму, начаткам грамматики, рисованию, арифметике и читать книгу «О должностях человека и гражданина». В средних училищах первые два класса составляли малое училище, а в третьем преподавались пространный катехизис, священная история, христианское нравоучение, объяснение Евангелия, арифметика, грамматика, всеобщая и русская история и краткая география. В главных училищах к перечисленным предметам присоединялись геометрия, архитектура, механика, физика, натуральная история и немецкий язык. Впоследствии от средних училищ отказались. Поскольку программа обучения первых двух лет совпадали во всех училищах ученики после окончания малого могли продолжить обучение в двух старших классах главного училища157.
Комиссия разработала «Правила для учащихся народных училищ» и «Руководство учителям первого и второго класса народных училищ Российской империи». Руководство было составлено Янковичем по австрийскому образцу. В нем автор более подробно раскрывал новые для России принципы классно-урочной системы, которая сохранилась в российских школах до сих пор. Учитель должен был вести урок для всех учеников одновременно и контролировать усвоение предмета индивидуально. От учеников требовалось отвечать на вопросы учителя по пройденному материалу и давать развернутые объяснения. Задать вопрос учителю можно было только подняв руку и получив разрешение. В школе использовался дневник для записи домашних заданий, расписание уроков и экзаменационные испытания.
Для подготовки учителей в декабре 1783 года в Петербурге была открыта Учительская семинария, ее первыми слушателями стали воспитанники духовных семинарий. Штат семинарии состоял из директора, 3 профессоров и 6 учителей. Директором был назначен Янкович де Мириево. На три профессорские должности были приглашены адъюнкты Академии наук – известные русские ученые и педагоги, которые обеспечили высокий уровень преподавания. Предметы физико-математического цикла читал М.Е. Головин, естественную историю – В.Ф. Зуев, всеобщую историю и географию – И.Ф. Гакман. Учебный план семинарии был довольно обширный. В ней преподавались самые разные предметы: математика, физика, механика, естественная история, география, история, черчение, рисование, архитектура, чистописание, русский, латинский и немецкий языки, катехизис.
В первый набор в семинарию приняли 100 семинаристов. Семинаристы были разделены на два разряда. Самые способные ученики готовились к работе в старших классах, менее успевающие – для работы в младших классах. Учащиеся первого разряда по показателям успеваемости делились на два отделения – математическое и гуманитарное. В каждое отделение предполагалось включить по 25 человек. В математическом преимущественно изучались арифметика, геометрия, физика, архитектура, в гуманитарном – всеобщая и русская история, география и языки. Преподавание в семинарии велось по классно-урочной системе158. При жизни Екатерины было произведено четыре набора слушателей в учительскую семинарию и подготовлено 400 учителей. В короткие сроки усилиями комиссии были подготовлены 70 учебных книг.
Одновременно в начале 1783 года в Петербурге были реорганизованы 7 цифирных и гарнизонных школ, в которых обучались 426 учеников и преподавали 27 учителей. На их базе ввиду отсутствия необходимого количества подготовленных учителей были открыты малые, двухгодичные училища, в которые были направлены по два учителя, подготовленных Янковичем. Как оказалось, желающих учиться было много и к 1785 года в петербургских малых училищах набралось 1192 ученика159.
В апреле 1786 года с выпуском первых ста учителей стало возможным открыть главные народные училища в 25 губерниях Российской империи. К этому времени были выполнены все необходимые для этого условия: изданы устав, инструкции, учебники и пособия. Устав начинался словами: «Воспитание юношества было у всех просвещенных народов толико уважаемо, что почитали оное единым средством утвердить благо общества гражданского, да сие и неоспоримо…» Так как результаты воспитания являются не сиюминутным процессом, напротив того, для их получения необходимо потратить достаточно времени, Устав оговаривал, что воспитанием необходимо заниматься начиная с малых лет и только в зрелом возрасте можно получить нужные результаты. Устав предусматривал организацию главных народных училищ по одному в каждом губернском городе и малых – как в губернских, так и в уездных городах. «Устав народным училищам в Российской империи», по сути, заложил основы и стандарт государственной общеобразовательной школы России. Теперь можно было рассчитывать на то, что со временем в России появится слой образованных людей, который будет в состоянии навести порядок в запущенном хозяйстве империи. Требовалось, однако, позаботиться и о высшем образовании.
Высшее образование в России
Высшее образование тоже делало первые робкие шаги. К началу XIX века в Российской империи имелось три университета – Виленский, Дерптский и Московский. Старейший Виленский университет, возникший еще в 1579 году, был известен благодаря астрономическим исследованиям. К началу XIX века количество его студентов возросло до 700 человек. Дерптский университет был открыт только в 1802 году. По уставу 1804 года Московский университет, созданный в 1755 году, имел 4 факультета: нравственных и политических наук; физических и математических наук; врачебных и медицинских наук, словесных наук. Количество студентов было невелико, около ста человек, обучавшихся за казенный счет. Дворянство не особенно стремилось к высшему образованию, а другие сословия и не думали об этом. Только после появления в августе 1809 года императорского указа «О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в коллежские асессоры и статские советники» дело сдвинулось с мертвой точки. Для сравнения полезно вспомнить, что Оксфордский университет был основан в XI веке, Кембриджский университет – в XIII веке. В XV веке в Шотландии появилось сразу три крупных университета, в которых среди студентов было много иностранцев. К началу XIX века европейские университеты в основном преодолели кризис, связанный с переходом от средневековой схоластики к новейшим естественно-научным методам познания мира. Россия только вступала в этот процесс и серьезно отставала от большинства европейских государств по уровню общей культуры, науки и образования, что, несомненно, стало важнейшим фактором, объективно предопределившим замедленное общественное и экономическое развитие.
Справедливости ради, следует отметить, что большое количество образованных людей не только для церкви, но и для государства дали духовные учебные заведения. Московская Славяно-греко-латинская академия – первое высшее учебное заведение, появившееся в России в конце XVII века. К моменту поступления в Академию М.В. Ломоносова (1731 год) в ней обучались 236 студентов, но потребность в просвещенных священнослужителях и чиновниках была столь велика, что по указанию царя Петра при архиерейских домах в Ростове Великом, Смоленске, Тобольске, Чернигове были созданы школы, получившие позднее название духовных семинарий. В течение XVIII века было открыто 34 семинарии. Семинария при Александра Невского монастыре и Казанская семинарии позднее были преобразованы в Духовные академии, в которых обучалась лучшая, наиболее талантливая молодежь. Петербургскую Академии закончил и потом преподавал в ней М.М. Сперанский, будущий законодатель и реформатор в эпоху Александра I.
Развитие инженерного образования в России связано с созданной Петром I в 1701 году в Москве Школой математических и навигацских наук, на базе которой в 1717 году была создана Морская академия, а также с инженерной ротой, организованной по указу царя Петра в Петербурге в 1719 году. Это было одно из первых отдельных регулярных инженерных подразделений, в которой проходили обучение будущие артиллеристы и фортификаторы. К апрелю 1720 года в роте уже было 11 инженерных кондукторов, 17 инженерных учеников I статьи, 29 учеников II статьи и 16 учеников III статьи, то есть всего 73 человека. В этой роте ученики завершали своё практическое обучение инженерной науке с последующим производством их в инженерные кондукторы.
Первая горнозаводская школа была открыты по указу Петра I при Олонецких заводах в 1716 году по инициативе В.И. Генина, соратника царя Петра, крупного специалиста в области горного дела и металлургии. Первые 20 дворян из Петербурга обучались здесь арифметике, геометрии, рисованию, основам артиллерии, инженерного дела. В 1721 году по инициативе В.Н. Татищева, тогда еще только советника Берг-коллегии, открылись горнозаводские школы при Кунгурском, Алапаевскам, Уксутском заводах, а потом еще две при Екатеринбургском заводе. В 1735—1741 годах было открыто 29 горнозаводских школ, где обучалось свыше 600 детей дворян, мастеровых и работных людей, солдат, подьячих и крестьян. В.Н. Татищев разработал программу обучения, воспитания и профессиональной подготовки учащихся. В уктуской и екатеринбургской школах готовили кроме того преподавателей для сибирских и уральских школ. В царствование Анны Иоанновны свыше половины горнозаводских школ Урала были закрыты из-за недостатка финансирования.
В Сибири первая горнозаводская школа была открыта при Нерчинском заводе в 1720-х годах, затем в 1730-х годах – в Красноярском крае при Луказском и Ирбинском заводах. В середине века на Алтае была открыта Барнаульская горнозаводская школа, ставшая первым средним учебным заведением в России. В школе готовили техников горного дела. К 1835 году в 46 горнозаводских школах обучалось уже 3618 учеников. Большой вклад в развитие среднего образования в горном деле внести отец и сын Соймоновы, основавшие Нерчинскую навигацкую и тобольскую Геодезическую школы.
Первым высшим инженерным учебным заведением, положившим начало высшему техническому образованию в России, стало Горное училище в Петербурге. Оно было образовано в 1773 году по докладу Сената, утвержденному Екатериной II. В докладе говорилось о том, что «… нынешнее заводского Правления состояние весьма от прежнего разниться; ибо, как прежде учреждено оное было для одного только размножения заводов, так ныне имея предметом общественную экономию, оно же должно стараться вообще о построении заводов, о прочности оных, о лучшем производстве горной работы, о существенном разборе металлов по их достоинствам и качествам, так и о доставлении из них меньшим, или, по крайней мере, равным иждивением большей пред прежним Государству прибыли; чего без обученных людей и сведущих заводских правителей ни как произвести не можно…».



