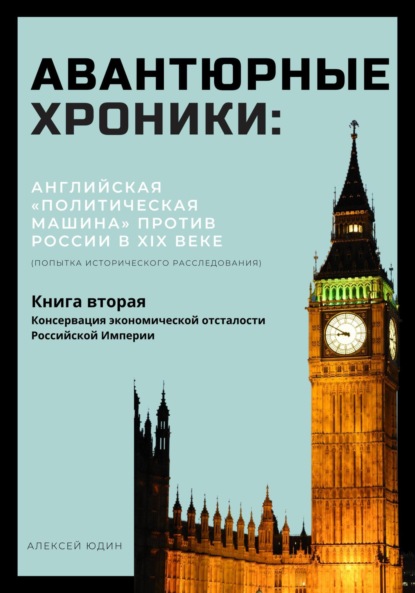
Полная версия:
Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
В тот год, как уже отмечалось, состоялось назначение Неккера на должность генерального контролера финансов, которого Шелбёрн, по данным Ларуша, при содействии Луи Филиппа, герцога Орлеанского и великого мастера Великого Востока Франции, продвигал на этот пост. Данная информация не поддается проверке, хотя достоверно известно, что Неккер в начале 1776 года побывал в Лондоне. Официально утверждается, что поездка была связана с делом французского посла в Лондоне Адриена-Луи Боньера, графа де Гина. Последний якобы, используя дипломатическую информацию, играл на бирже, и нужно было как-то замять скандал. Де Гин был действительно в марте того года отозван из английской столицы, но претензии к нему были совершенно иного характера. Его обвиняли в том, что в интересах своего отставленного покровителя, герцога Шуазеля он на свой страх и риск вел в Лондоне какую-то опасную дипломатическую игру. Как представляется, вовлекать Неккера, даже не гражданина Франции, а в то время частного лица, в деликатное межгосударственное дело вряд ли было оправдано. Более вероятно, что Неккер ездил на «смотрины», скорее всего встречался с Шелбёрном и уже после этого в октябре того же года состоялось его правительственное назначение. Кроме того, фактическая деятельность Неккера на ключевом посту во французском правительстве хотя и косвенно, но убедительно утверждение Ларуша подтверждает: он, как уже было показано, весьма преуспел в опустошении французской казны, в резком увеличении французского государственного долга и расходов на его обслуживание, что ограничило возможности правительства финансировать экономическое развитие Франции. В меньшей степени запомнились его административные реформы в провинциях, которые привели к резкой политической активизации провинциального населения. Примечательно, что после него начатое продолжил Калонн, который по итогам своего министерства был вынужден бежать в Лондон. Ну, а явно провокационная правительственная тактика Неккера в 1788 и 1789 годах, о которой было написано, выше, не оставляет сомнений в том, что «министр-патриот» играл важную роль в «механизме запуска революции».
Непосредственно в предреволюционный период во Франции Шелбёрн в своем имении Бовуд создал фактически центр руководства действиями французской оппозиции. В Бовуде постоянно проживали Иеремия Бентам, известный теоретик и практик социальных экспериментов, Этьен Дюмон, женевский революционер и протестантский пастор по совместительству, переводчик и редактор работ Бентама, а также Сэмюель Ромилли, крупный адвокат, поклонник творчества Ж.-Ж. Руссо, выходец из гугенотской семьи, которая, похоже, переселилась в Англию тоже из Женевы.
Ромилли был привлечен Шелбёрном к «французскому проекту» раньше других участников Бовудского кружка. В 1781 году во время адвокатских каникул он совершил небольшое путешествие в Швейцарию и заехал во Францию. В Женеве он познакомился с Этьеном Дюмоном и Этьеном Клавьером, оба были лидерами Женевской либеральной оппозиции и готовили антиаристократическую революцию, которая в 1782 году при содействии французских войск благополучно провалилась. Оба были вынуждены бежать из Женевы. Дюмон бежал в Петербург, где около 18 месяцев служил пастором протестантской церкви, а затем перебрался в Лондон. Вместе с Клавьером, который сразу бежал в Лондон, он предлагал Питту Младшему решить «ирландский вопрос» путем создания «Новой Женевы» в Ирландии, куда в основном перебрались около 500 женевских революционеров, но потом планы изменились. Клавьер со своими товарищами переехал в Париж и открыл там свой банкирский дом.
В Париже Ромилли имел множество встреч, но конкретные фамилии, не известны. Можно утверждать только одно – это были главным образом представители либеральной французской оппозиции. Дом, где проходили эти встречи и в котором остановился Ромилли, принадлежал его дальней родственнице Маргарите Делессер. Известно, что семья Делессеров покровительствовала Руссо до самой его смерти, и он был здесь своим человеком. Следует также напомнить, что в мае того года Неккер подал в отставку, и в то время в окружении Людовика XVI решался вопрос о назначении нового министра финансов. Министр иностранных дел граф Вержен прочил на этот пост Александра Калонна, но тогда Морепа, который предупреждал короля о ненадежности этого человека, был еще жив. Впрочем, вполне вероятно, что визит Ромилли в Париж был никак не связан с отставкой Неккера, и это было простое совпадение.
В 1783 году Ромилли совершил второе путешествие во Францию. В доме Делессеров он познакомился с Бенджамином Франклином и возобновил знакомство с Оноре Мирабо, давним знакомцем графа Шелбёрна, известным авантюристом и сотрясателем общественных устоев. Мирабо потом приходил ежедневно, и эти встречи продолжались довольно долго. В 1789 году Ромилли снова отправился в Париж «изучать» Французскую революцию и снова встречался с Мирабо, который в этот период находился еще в заключении в Венсенском замке. Позднее, когда Мирабо встал во главе оппозиции, он обратился к Ромилли с просьбой составить описание порядка работы британской Палаты общин. Думается, что были у Мирабо и другие просьбы.
По возвращении из России в 1787 году Бентам тоже погрузился во французские дела144. Его таланты политолога и политтехнолога, умение видеть тонкости взаимодействия между монархом, законодательной и исполнительной ветвями власти, а главное – умение использовать их в практическом плане, о чем уже было сказано выше, оказались крайне необходимы. Можно даже предположить, что идея Адриена Дюпора о том как «запустить» революцию во Франции при помощи средневековых и потому «безобидных» Генеральных Штатов, о формировании корпуса агрессивных депутатов, действующих в соответствии с единообразными «наказами», и даже тексты этих наказов, написанных как под копирку, принадлежат на самом деле Бентаму. Подтверждение или опровержение этой гипотезы следует искать в архиве Бентама, когда доступ к ним будет открыт.
Бентам в этот период своей «творческой» деятельности занимался и широкой пропагандистской работой. В своей книге о политических софизмах «The book of Fallacies» он беспощадно «демонстрировал французам все махинации сторонников Старого порядка, старающихся отстоять милую им старину, под сенью которой они отлично обделывают свои темные делишки». Бентам выводил начистоту все иезуитские подвохи, направленные на то, чтобы парализовать революцию.
Бентам «работал» и с французской оппозицией. Он давно находился в дружеской переписке со многими выдающимися деятелями готовившегося переворота. Особенно близко сошелся он с лидером жирондистов Жаком-Пьером Бриссо. Задолго до революции Бриссо, сторонник республики, отказался от карьеры адвоката и занялся публицистической деятельностью. Его антимонархические памфлеты и крайне резкие выступления были с одобрением встречены Вольтером, но навлекли на него преследования властей. Бриссо был вынужден бежать в Лондон, где, судя по всему, познакомился с Бентамом и успел посотрудничать с членами «кружка Бовуд». В 1784 году он вернулся во Францию и оказался в Бастилии. Только благодаря заступничеству герцога Орлеанского Бриссо удалось выйти из тюрьмы. Яркие и зажигательные выступления Бриссо и его сторонников-жирондистов против монархии, резкие статьи в его весьма популярной газете «Французский патриот» сделали его самым последовательным сторонником свержения французской монархии. После победы Французской революции в благодарность за услуги, оказанные революции, по предложению Бриссо национальное собрание Франции возвело Бентама 26 августа 1792 года в звание французского гражданина.
Бентам, однако, скоро убедился в том, что в организационном плане жирондисты оказались менее подготовлены, чем якобинцы и были вынуждены уступить им лидерство в революционном движении. Бентам сосредоточился на поддержке Мирабо, для которого подготовил несколько записок по практическим вопросам стратегии и тактики оппозиции в противостоянии с королевской властью на начальном этапе революции. Судя по всему, эти записки легли в основу «Эссе по поводу тактики в законодательных собраниях», которое Дюмон составил и опубликовал в 1791 году. Оценки ситуации и советы Бентамы были крайне важны на начальном этапе, когда решался вопрос о превращении Генеральных штатов сначала в Национальное, затем Учредительное собрание, а по сути – о придании революции необратимого характера. Следует еще раз подчеркнуть, что беспощадный анализ Бентамом общественных процессов носил исключительно практический характер и служил «исправлению» общества таким образом, как он себе это представлял.
Когда Французская революция вступила в активную фазу Бентам, Дюмон и Ромилли писали статьи для газеты Мирабо «Курьер де Прованс», а также программные речи для его выступлений в Генеральных штатах. Все материалы пересылались дипломатической почтой в Париж. В Париже Мирабо помогал Клавьер, он тоже писал статьи, а также занимался организационной работой, помогал создавать Бретонский клуб, а позднее преобразовывал его в клуб якобинцев, «Общество друзей конституции». В начале лета 1789 года Дюмон тоже отправился в Париж помогать Клавьеру и Мирабо. Формально ему было поручено встретиться с Неккером, который вновь вошел во французское правительство, чтобы «обсудить и попытаться изменить французскую политику в отношении Швейцарии». Реально у него было совсем другое поручение. Революция разгоралась и оказывать содействие Мирабо при помощи почтовых сообщений оказалось затруднительным. Мирабо к этому времени благодаря своим ораторским талантам, громовому голосу, неиссякаемой энергии и мощной харизме стал признанным лидером Генеральных штатов. Ему приходилось непросто: надо было мгновенно оценивать быстро меняющуюся обстановку и тут же реагировать. Мирабо и сам остро чувствовал ситуацию и, когда понял, что большинство депутатов его поддержат, немедленно выступил с инициативой преобразования Генеральных штатов в Национальное собрание, но события ускоряли ход и без опытных советников обойтись было сложно. Дюмон и Клавьер стали его постоянными спутниками и помощниками. Доходило до того, что Дюмон, по наблюдениям современников, непосредственно в зале заседаний в Версале писал тексты выступлений Мирабо, которые тот тут же зачитывал. Достоверно известно, что именно Дюмон написал абзац речи, которой Мирабо 11 июля потребовал от короля вывести войска из Парижа и которая стала своего рода прологом к штурму Бастилии.
В 1790 году Ромилли тоже приехал в Париж, откуда писал Шелбёрну подробные отчеты о ходе революции, о работе Дюмона и Клавьера. Однако представляется, что цель поездки была несколько иной. Скорее всего в Лондоне забеспокоились по поводу нерешительности Мирабо. Есть основания подозревать, что Дюмон, который в начале 1791 года неожиданно вернулся в Лондон, вступил в конфликт с Мирабо. Лидер революции начал понимать куда ведет логика борьбы и старательно избегал радикализации революции, на чем настаивали сторонники М. Робеспьера. Стремясь не допустить гражданского конфликта, Мирабо внес законопроект, который запрещал ношение оружия всем, кроме представителей знати и среднего класса. Как член дипломатического комитета Учредительного собрания, он стремился удержать депутатов от демаршей, которые были бы способны спровоцировать вооруженную интервенцию европейских монархов, глубоко обеспокоенных революционными событиями во Франции и их влиянием на собственное население. На этой почве он сблизился со своим старым знакомым, министром иностранных дел Людовика XVI Арманом Марком, ближайшим советником Марии-Антуанетты, который стал и его постоянным консультантом. Возможно, в Лондоне стало известно о секретных контактах Мирабо с королем и королевой и о его планах спасения монархии. Неожиданная смерть Мирабо в апреле 1791 года не оставила шансов этим планам реализоваться.
Утверждать, что смерть Мирабо носила насильственный характер нет достаточных оснований, правда, причины смерти историки называют разные. Наиболее распространенная версия гласит, что излишества молодости подорвали здоровье революционера, а лихорадочная деятельность в период работы Генеральных штатов довершила разрушение некогда могучего организма. Другая – что причиной был перенесенный им незадолго до смерти перикардит, но врачи поставили его на ноги и он вернулся к активной работе с депутатами уже Учредительного собрания. Еще одна версия сводится к перитониту, но она не выдерживает критики: перед кончиной Мирабо с обычным для него красноречием руководил дебатами между депутатами Собрания. Как бы то ни было, на смену Мирабо как главе якобинского клуба пришел Робеспьер, который хорошо запомнил еще один совет, данный французским масонам Адриеном Дюпором, или его английскими коллегами о том, что «управлять революцией можно только посредством террора». Разорение Франции было гарантировано, а Британия получила возможность заняться другими важными делами. На очереди был «русский проект» – влияние России на европейские дела в годы правления Екатерины неуклонно возрастало и из эпизодического союзника Британии она превращалась в самостоятельного игрока и мощного соперника.
Питт Младший и внешняя политика
В ряде исторических сочинений можно встретить утверждение о том, что в первые годы своего правления Питт Младший практически не интересовался внешней политикой и отдал эту сферу на откуп королю и лорду Кармартену, министру иностранных дел. На самом деле это не совсем так, точнее совсем не так. В самом начале своего министерства Питт стремился любой ценой избежать новой войны, чтобы дать передышку населению, наладить финансы, восстановить флот и армию. Как уже отмечалось, ему пришлось сразу же заняться угрозой банкротства правительства, но внешнеполитические вопросы он ни на минуту не упускал из виду. По признанию того же Кармартена, Питт внимательно читал переписку Форин Офиса с британскими послами. По словам Кармартена, в Уимблдоне в мае 1784 года они много говорили о внешней политике и сошлись во мнении относительно желательности ухудшения связей между Австрией и Францией и создания какого-либо союза, способного уравновесить могущество французского и испанского бурбонских домов»145. Такого союзника несмотря на затаенную обиду за инициативу русского правительства по созданию лиги вооруженного нейтралитета в 1780 году Питт видел прежде всего в России. Уже в октябре 1784 года он собственноручно составил инструкцию английскому послу в Петербурге Аллейну Фицгерберту, в которой предложил добиваться установления союзнических отношений с Россией и Данией как державами наименее враждебными Британии и способными уравновесить опасные союзы между Бурбонами Франции и Испании, а также между Францией и Австрией. Союз с Россией рассматривался Питтом и как средство предупредить таковой между Парижем и Петербургом. Он считал эту задачу настолько важной, что неоднократно приглашал к себе русского посла в Лондоне С.Р. Воронцова. После таких встреч посол неизменно докладывал в Петербург о желании британского премьера «видеть наши отечества всегда в согласии». В Петербурге, однако, не обольщались надеждами на союзнические отношения с Лондоном: англичане упорно не желали включить в проект союзного договора антитурецкие статьи, а из Стамбула доходили известия о том, что британский посол интригует там против России.
Не удались также попытки сближения Лондона с Веной. Император Иосиф II не ответил на предложения, сделанные ему через Брюссель послом Фицгербертом, а посла Стормонта, который просил об аудиенции, он просто не принял. Более того, он проинформировал о намерениях англичан министра иностранных дел Франции Вержена, что спровоцировало дипломатический скандал. Надежды на восстановление отношений с Голландией, осложнившиеся в ходе войны за независимость США, также не оправдались. Гаага все больше подпадала под влияние Парижа, а франко-голландское сближение представляло собой прямую угрозу британскому господству на морях. Двусмысленная и чересчур «гибкая» политика Потсдама, где после поражения в Америке не рассматривали Британию как серьезную державу, также не позволяла рассчитывать на сколь-нибудь крупную дипломатическую игру с целью изменить баланс в Европе и найти выход из изоляции.
Положение несколько изменилось, когда в 1786 году «старый Фриц» скончался. Новый прусский король Фридрих Вильгельм II демонстрировал проанглийские симпатии, но дальше этого не шел. Только события в Голландии, где республиканцы собрали гражданское ополчение для вооруженной борьбы с оранжистами, сторонниками штатгальтера Вильгельма V Оранского, ускорили сближение Пруссии и Британии. Пруссия решилась вмешаться и силой подавить оппозицию. Британия тоже поддержала штатгальтера, выделив ему субсидию в размере 20 тысяч фунтов, а также сообщила в Париж, что в случае вмешательства французов в голландские события англичане выступят на стороне голландского штатгальтера Вильгельма V. Франция воздержалась от решительных действий, и это была первая крупная дипломатическая победа Британии, победа Питта, которая ознаменовала новый этап в британской внешней политике.
С весны 1788 года приоритетным направлением английской дипломатии снова стала Россия, но теперь речь о союзе уже не шла. Более того в начавшейся в августе 1787 года новой русско-турецкой войне Питт едва ли не открыто встал на сторону турок. Под предлогом нежелания нарушать нейтралитет английский кабинет запретил фрахтовать английские транспорты для перевозки русских солдат на острова греческого архипелага. Попытки русского посла С.Р. Воронцова как-то урегулировать вопрос понимания ни у Кармартена, ни у Питта не нашли. И Кармартен, и Питт открыто указали Воронцову на то, что обстоятельства круто изменились и вспоминать о прежних дружеских отношениях не имеет смысла. Следующий британский демарш не заставил себя ждать. В мае 1788 года русский посол сообщил, что Лондон чинит препятствия отправке продовольствия, закупленного в Британии, на корабли русской эскадры, поскольку желает сохранить «полный нейтралитет» в войне между русскими и турками.
В это же время в Петербурге узнали о том, что Питт интригует против России в Дании и Швеции. «Британский посол в Копенгагене получил указание «стараться отвратить наследника и все тамошнее министерство от России, предлагая новый союз между Великобританией, Пруссией, разными мелкими владельцами, Швециею и Даниею», – докладывал Воронцов вице-канцлеру И.А. Остерману146. В Стокгольме британские дипломаты прямо подталкивали шведского короля Густава III к войне с Россией, обещая по своему обычаю щедрые субсидии. Усилия британского правительства по спасению Турции активно поддерживала Пруссия, которая с большим пониманием относилась к призывам британских дипломатов положить конец растущему могуществу России. К тому же призывала и британская пресса. К концу 1788 года стало окончательно ясно, что англо-прусско-голландский союз, направленный, казалось, против Франции, приобрел ярко выраженную антирусскую направленность. С учетом успехов английской промышленности, стремительными темпами растущего совокупного богатства Британии, восстановленного британского флота положение для России становилось действительно опасным, тем более, что внутреннее российское неустройство было хорошо изучено в Лондоне. Лорд Шелбёрн давно и обстоятельно этим занимался.
Часть вторая: Какая империя досталась Александру I?
Кстати, этот вопрос волновал и самого Александра. Один из ближайших сподвижников императора Н.Н. Новосильцов почти год на заседаниях Негласного комитета представлял справки о состоянии дел в различных сферах Российской империи. Где он черпал сведения неизвестно, скорее всего Александр открыл ему доступ к документам департаментов Сената и коллегий.
Российская империя находилась на вершине политического могущества. Ни у кого не вызывала сомнения и ее военная мощь. Без России не решались европейские конфликты. Австрия и Англия непременно желали, чтобы русская армия во главе с Суворовым, а позднее Кутузовым, Багратионом, Барклаем де Толли воевала на их стороне против французов. Потом все перевернулось, и уже Наполеон совместно с Павлом I планировал захватить британскую Индию. Большинство современных историков изображают этот эпизод как чуть ли не комедийную авантюру, а в Лондоне отнеслись к этому вполне серьезно и санкционировали убийство русского императора. Следовательно британское правительство высоко оценило шансы лишиться главной «жемчужины» британской имперской короны.
Вместе с тем блестящий фасад Российской империи, обращенный к Европе и миру, скрывал огромные внутренние слабости, накопившиеся за предыдущее столетие. Россия катастрофически отставала от большинства европейских государств, и прежде всего от Англии, по уровню технического развития. Самое печальное состояло в том, что в русском обществе еще не возникло понимания того, что машинная индустрия превращалась в главный тренд грядущего столетия, что от скорости внедрения технических новшеств в производство и сельское хозяйство, от степени распространения машин и механизмов, приводимых в действие силой пара, в решающей степени зависели внутренние и внешние позиции русского государства. Екатерина II вслед за английскими луддитами повторяла, что «махины» вредны, они лишают человека работы. Плата за это заблуждение оказалась жестокой.
Территория и население
Александру I досталась огромная империя. Страна занимала 19,6 млн. квадратных километров – почти в два раза больше территории Европы. За долгий XVIII век к исконным территориям России были присоединены Лифляндия, Эстляндия, Ингрия (устье Невы), часть Карелии и часть Финляндии, правобережная Украина, вся Белоруссия, Юго-Западная Русь, Литва и Курляндия, Новороссия, Кабарда, Осетия, Крым, Чечня, Тамань, Кубань, Восточная Грузия, часть территории Казахстана (Малый и Средний жузы), установлена граница с Китаем, началось освоение западного побережья Америки. В 1799 году указом Павла I была создана Российская американская компания с правом монопольного пользования промыслами и природными произведениями Русской Америки. Граница с Турцией была проведена по Днестру, Молдавия и Валахия получили автономию, а местные православные стали пользоваться покровительством России.
За годы правления Екатерины II народонаселение Российской империи выросло с 23,6 миллиона человек до 41,2 миллионов человек в 1796 году147. По данным одного из первых русских статистиков Константина Арсеньева148, население империи по пятой ревизии 1796 года составляло 33, 4 миллиона человек мужского и женского пола, то есть выросло на 41,5 процента. Прирост населения по отношению к количеству умерших за год состоял в пропорции 160 к 100. Для сравнения, в Англии самой развитой стране Европы этот показатель составлял 113 к 100. При этом среднегодовая смертность в России была самая низкая в Европе: 1 на 40 человек населения, в то время как в Германии эта пропорция составляла 1 на 32, а во Франции – 1 на 30.
Все население статистик делил на два класса: производящий (земледельцы, мануфактуристы, ремесленники и купцы) и непроизводящий (духовенство, дворянство, чины гражданские и военные). По шестой ревизии производящий класс насчитывал 18,456 млн. душ мужского пола, а именно купцов – 119 тыс. душ, мещан – 750 тыс. душ, вольных людей – 137 тыс. душ, казенных крестьян – 6,7 млн. душ, удельных крестьян – 570 тыс. душ, помещичьих крестьян – 10,5 млн. душ. Непроизводительный класс состоял из почти 2 млн. душ, включая дворянство – 225 тыс. душ; духовенство – 215 тыс. душ, военных – до 1,0 млн. душ, разночинцев и служащих всякого рода – до 750 тыс. душ.
Из этих цифр Арсеньев сделал несколько выводов. Во-первых, 9 производителей содержали на тот момент 1 потребителя. Во-вторых, одни только земледельцы в пять раз превосходили числом все прочие сословия – непреложное доказательство того, что Россия была в высшей степени земледельческая держава. В-третьих, класс фабрикантов, ремесленников и купцов составлял только 5 процентов от числа земледельцев, «из чего видно, что фабрики и ремесла в России еще недостаточно распространены». В-четвертых, в России практически не было третьего сословия, «естественного и весьма нужного предела» между земледельцем и помещиком. В этом Арсеньев усматривал одну из важнейших причин отставания России от Европы по уровню образования. В России, по его расчетам, соотношение третьего сословия к общему числу жителей составляло 1 к 25, а в Европе – 1 к 5.
Количество городских жителей по шестой ревизии он принимал за 3 млн. человек, которые проживали в 634 губернских, уездных и заштатных городах. Самые большие города были представлены двумя столицами. В Петербурге насчитывалось до 330 тыс. человек, в Москве – 220 тыс. человек. Городов первого класса с населением от 30 до 70 тыс. человек было всего пять, в порядке убывания: Вильно, Казань, Тула, Астрахань, Рига. Причем Вильно, самый густонаселенный город не дотягивал до 70 тысяч, в нем проживало всего 56 тыс. человек. А всего в городах первого класса проживало около 230 тыс. человек. Городов второго класса с населением от 10 до 30 тысяч человек насчитывалось тридцать. В них проживало до 470 тыс. человек. В 85 городах третьего класса с населением от 5 до 10 тыс. человек было сосредоточено до 583 тысяч человек. В остальных городах четвертого, пятого и шестого классов проживало в общей сложности 960 тысяч человек.



