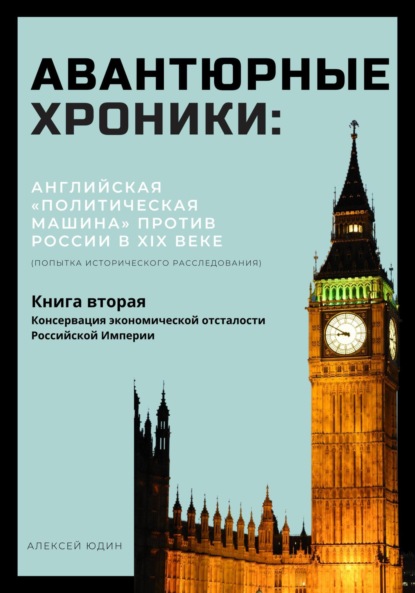
Полная версия:
Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
Вот тогда-то Калонн и решил вернуться к глубоким реформам несмотря на то, что уже утратил поддержку общественности. В августе 1786 года он представил королю проект плана реформирования финансов, в котором он предложил вдохнуть новую жизнь во все сферы государственной жизни «путем устранения всего вредного и отжившего». Речь шла о ликвидации всех внутренних таможен, об отмене всех сборов, о снижении размера тальи114, о замене дорожной барщины (корве) денежной выплатой, о трансформации Учетной кассы в государственный банк, а также о введении новых налогов на собственность аристократии и духовенства. Центральным звеном плана стало введение территориальной субвенции, единого налога для всех сословий на доходы от земельной собственности, который был призван заменить двадцатины. Распределение и сбор нового налога предлагалось поручить пирамиде местных ассамблей: приходских, муниципальных, районных, избранных плательщиками налогов независимо от их социального статуса.
Когда Калонн представил Людовику XVI свой проект, король сразу узнал в нем идеи Неккера и Тюрго, но проект поддержал. Калонн, понимая, что преодолеть сопротивление Парижского парламента столь радикальным мерам будет непросто, если вообще возможно, решил представить проект на рассмотрение Ассамблеи нотаблей, поскольку в соответствии с законом король не имел права ввести постоянный налог, не посоветовавшись со своими поддаными115.Это решение было по меньшей мере странным. Калонн не мог не учитывать, что Ассамблея нотаблей состояла главным образом из крупных земельных собственников, которые предсказуемо отвергли бы его идеи. Кроме того, он не мог не понимать, что созыв Ассамблеи нотаблей требовал много времени. Он таким образом давал возможность оппозиции договориться и сорганизоваться. Так оно и произошло. Калонн представил свой план королю в августе, Ассамблея собралась в декабре, а первое заседание открылось только в конце февраля. Были созданы шесть комиссий, из которых только одна согласилась с планом Калонна, одна категорически отвергла его, объявив его неконституционным, остальные утверждали, что предложенные меры неисполнимы и предлагали поправки, которые уничтожали саму идею реформы. В итоге нотабли ничего не решили и предложили созвать Генеральные штаты, старинный совещательный орган, не созывавшийся к тому времени более полутора веков. При этом все без исключения нотабли делали вид, что не подозревали масштаба бюджетного дефицита, который министру пришлось раскрыть. Раздраженный Калонн дал указание опубликовать план реформ. Попытка Калонна обратиться к поддержке общественности дала обратный результат. Возмутились все, общественное мнение, вопреки ожиданиям Калонна, враждебно восприняло план министра, который со смертью Вержена лишился своего главного заступника. Людовик XVI до этого момента последовательно поддерживал своего министра, но после обнародования плана реформ был вынужден реагировать. В апреле 1787 король не просто отправил министра финансов в отставку: Калонн был сослан в одно из его имений и ему было приказано вернуть королевские награды. Во Франции ликовали все.
Историки высказывают предположения, что план Калонна, будь он принят, мог бы спасти французскую монархию, и если бы не всеобщее возмущение, вызванное публикацией, короля можно было бы уговорить, можно было бы продолжить поиски компромисса с нотаблями. И тут возникает вопрос: а не мог ли Калонн, как и в случае с публикацией отчета Неккера, сознательно пойти на обнародование плана реформы, чтобы лишить короля возможности маневрировать? И, как ни удивительно, ответ, скорее всего, придется дать утвердительный. Дальнейшие действия Калонна не оставляют других вариантов.
Находясь в ссылке и опасаясь ареста за злоупотребления во время монетной реформы, Калонн в конце 1787 года бежал в Англию, где его тепло встретили. Он попытался восстановить свою репутацию, правда, сделал это весьма своеобразно. Он привлек скрывавшегося в Англии известного французского памфлетиста с не очень чистой репутацией, выкупил у супругов де Ламотт, тоже бежавших в Лондон, компрометирующие Марию Антуанетту документы и организовал их публикацию в английской прессе. Речь шла о так называемом ожерелье королевы Марии-Антуанетты огромной ценности, которое она якобы при посредничестве кардинала де Рогана купила у парижских ювелиров и якобы даже подписала соответствующий договор. На самом деле авантюристка и мошенница Жанна де Ламотт хитростью вынудила кардинала де Рогана выступить от имени ничего не подозревавшей королевы, заплатить за ожерелье часть суммы наличными и подписать долговые расписки. Ожерелье было похищено супругами де Ламот, а де Роган оказался в Бастилии. Несмотря на то, что в мае 1786 года парижский суд полностью оправдал кардинала и осудил Жанну де Ламотт, публикация поддельных документов вызвала во Франции скандал, который, как представляется, запустил процесс окончательной десакрализации и до того уже малопопулярной французской монархии. Калонн не ограничился этой публикацией. Он печатал в британской прессе многочисленные статьи, в которых пытался оправдать свои действия и тем самым раскрывал дополнительные неприглядные аспекты состояния французских финансов в результате расточительности двора и его фаворитов. Впрочем, этим ему пришлось заниматься недолго – с 1789 года он начал комментировать в английских газетах ход французской революции.
Ломени де Бриенн
В самом конце апреля 1787 года правительство Франции возглавил тулузский архиепископ Э.Ш. Ломени де Бриенн. И хотя он выдвинулся на политическую авансцену в собрании нотаблей как один из наиболее активных критиков Калонна, необходимость налоговой реформы была очевидна и для него. Он, однако, понимал, что парламенты представляют собой почти непреодолимое препятствие на пути любых реформ, которые задевают их интересы. По его инициативе 8 мая 1788 года на «королевском заседании»116 парламента было объявлено о реформе, подготовленной хранителем печати Ламуаньоном. Хотя парламенты в принципе не ликвидировались, их деятельность приостанавливалась на неопределенное время, состав сокращался, а большая часть полномочий передавалась 47 новым окружным судам. Правом регистрации отныне обладал один лишь Пленарный суд, создаваемый на основе Большой палаты Парижского парламента, члены которой, по сравнению с прочими, отличались большей умеренностью. Правда, покупной характер должностей сохранялся. Реформа Ламуаньона вызвала ожесточенное сопротивление провинциальных судов. Они не только отказывались регистрировать соответствующие эдикты и засыпали короля ремонстрациями, но и провоцировали анти-правительственные выступления, нередко выливавшиеся в вооруженные стычки с войсками.
Инициаторами уличных беспорядков, как правило, выступали служащие судов, весьма многочисленные в тех городах, где располагались парламенты. Во многих провинциях оппозиционное движение было активно поддержано дворянством, раздраженным тем, что реформа ограничила юрисдикцию сеньориальных трибуналов. Оппозиционные выступления накладывались на начавшийся во второй половине 1780-х годов экономический кризис, провоцировали рост общественного недовольства, что способствовало вовлечению широких масс в анти-правительственные выступления. В требованиях оппозиции ретроградные идеи порой причудливым образом сочетались с либеральными принципами века Просвещения. Так, в Гренобле собрание представителей всех трех сословий призвало к восстановлению не собиравшихся с 1628 года провинциальных штатов Дофине, в которых, однако, предполагалось, в соответствии с духом времени, удвоенное число депутатов третьего сословия и индивидуальное голосование. Это собрание также потребовало ликвидации всех налоговых привилегий.
Как бы откликаясь на подобные требования провинций, Ломени де Бриенн инициировал эдикт 17 июня 1787 года о провинциальных собраниях. Эти местные органы власти было предложено избирать на основе имущественного ценза, а их основная задача состояла в распределении налогов в своих провинциях. Представители третьего сословия получали в них половину мандатов, все депутаты голосовали индивидуально. Одновременно он вновь предложил своим бывшим коллегам по собранию нотаблей одобрить единый поземельный налог, но не в натуральной форме, как того хотел Калонн, а в денежной. Однако нотабли налог снова не приняли, сославшись на этот раз на свою некомпетентность. Они посоветовали королю созвать Генеральные штаты, после чего были распущены по домам.
После неудачной попытки утвердить налоговую реформу в собрании нотаблей, правительству ничего не оставалось, кроме как пойти традиционным путем и внести соответствующие законы на регистрацию в Парижский парламент. Тот без возражений зарегистрировал эдикты о хлебной торговле, дорожной барщине и провинциальных собраниях, но отказался принять увеличение гербового сбора и введение поземельного налога. Выступая, по существу, против отмены налогового иммунитета привилегированных сословий, парламент демагогически апеллировал к общественному мнению, призывая решить финансовые проблемы государства лишь за счет сокращения расходов двора. В ремонстрации от 24 июля он вновь посоветовал королю созвать Генеральные штаты. Чтобы преодолеть сопротивление судейских, Людовик XVI назначил на 6 августа «королевское заседание», чтобы властью короля зарегистрировать отклоненные эдикты. Однако парламент и накануне этого заседания, и после него принял постановления, фактически дезавуировавшие принудительную регистрацию. Парижский парламент активно поддержали и провинциальные суды. В ночь с 14 на 15 августа Парижский парламент был выслан в Труа.
Впрочем, эта некогда эффективная по отношению к судейским мера принуждения на сей раз ожидаемого результата не дала. Обычно, прочувствовав разницу между жизнью в столице и в маленьком провинциальном городке, судейские рано или поздно шли на компромисс, чтобы вернуться в Париж. Теперь же у правительства не было времени ждать. Да и общественное мнение поддерживало парламент, придавая дополнительное упорство его сопротивлению. После месяца переговоров Ломени де Бриенн вынужден был отказаться от введения поземельного налога и увеличения гербового сбора. Взамен, вернувшийся в столицу парламент согласился с продлением действия двух двадцатин. Временный компромисс не положил конец противоборству. Парламенты продолжали критиковать двор за расточительность, уличные беспорядки продолжались.
Ломени де Бриенн попытался сбить волну оппозиционных настроений, призвав всех желающих направлять правительству свои соображения относительно будущего созыва Генеральных штатов, что, по сути, означало признание свободы слова. Однако анти-правительственные выступления продолжались. Брожение проникло даже в армию. Правительству пришлось признать свое поражение. 8 августа судебная реформа была отменена, а на 1 мая 1789 года назначено открытие Генеральных штатов. 15 августа государство приостановило платежи по своим долгам. 25 августа ушел в отставку Ломени де Бриенн, 14 сентября – Ламуаньон. Очередная и, как оказалось, последняя попытка французской монархии Старого порядка модернизировать государство посредством реформ окончилась крахом117.
Второе министерство Неккера
После провала экспериментов Калонна и архиепископа Ломени де Бриенна (оба из запретительного списка Морепа), большого друга физиократов Тюрго и Морелле, французская монархия де-факто оказалось в состоянии финансового банкротства, за которым отчетливо просматривался и политический крах. Попытки получить заем у европейских банкиров оказались безуспешными: Франции в кредите отказали. Необходимость изыскать средства вынудили Людовика XVI снова призвать Неккера. Существует мнение, что это было условием предоставления займа, выдвинутое европейскими банкирами. В конце августа 1788 он был назначен генеральным директором по финансам, а два дня спустя – государственным министром, что служило пропуском в Королевский совет и сделало его французским политиком первого ранга, несмотря на то, что он оставался швейцарским протестантом.
Неккер начал действовать без промедления, и деятельность его не ограничивалась чисто финансовыми вопросами. Прежде всего он обратился к проблеме голода и запретил экспорт зерна, организовал закупки пшеницы за границей и предоставил импортерам специальные привилегии, а полиции дал полномочия для поддержания порядка на рынках. Кстати, в поставках пшеницы во Францию опять отметился английский банкирский дом Бурдьё и Шоле, а связником между Неккером и Бурдьё выступил их общий знакомый и доверенное лицо обоих финансистов, некто Бартоломео Юбер118. В октябре он был командирован Неккером в Лондон для организации снабжения Парижа. Сохранились письма, которые Юбер писал регулярно Неккеру из Англии119. К сожалению, письма эти до сих по недоступны, но следует учесть, что они были написаны в период, когда французское общество все больше и больше дестабилизировалось. В сфере финансов Неккер немедленно отменил приостановление платежей, декретированное Ломени де Бриенном, и легко организовал заем на 80 миллионов ливров, необходимых для исполнения обязательств государственного казначейства в период до начала работы Генеральных штатов.
Про Генеральные штаты Неккер тоже не забыл. Немедленно по вступлении в должность он предложил созвать Генеральные штаты в мае следующего, 1889 года, а в ноябре текущего вновь собрать Ассамблею нотаблей, чтобы решить вопрос как выбирать депутатов Генеральных штатов: поименным голосованием всех имеющих право избирать или как прежде по сословиям: одно сословие – один голос. Он также предложил нотаблям согласиться с удвоением представительства третьего сословия в Генеральных штатах как самого многочисленного сословия в государстве. Позиция директора по финансам в отношении представительства третьего сословия немедленно возродила его былую популярность и отныне его называли не иначе, как «министр-патриот».
К тому времени вся Франции покрылась густой сетью разнообразных общественных объединений: естественно-научных, философских и агрономических кружков, провинциальных академий, библиотек, масонских лож, музеев, литературных салонов и других подобных общественных структур, в которых разворачивались бурные дискуссии о положении в стране, о путях выхода из политического и экономического кризиса, о власти короля и о порядке работы Генеральных штатов. В отличие от традиционных объединений, эти ассоциации имели внесословный характер и демократическую организацию. Среди их членов можно было встретить и дворян, и священнослужителей, и судейских чиновников, и представителей образованной верхушки третьего сословия. Примечательно, что все эти разбросанные по стране просветительские ассоциации поддерживали между собой постоянную связь, образуя как бы прообраз всесословного французского общества, объединенного идеалами Просвещения.
Координирующим центром патриотической партии, как стали называть это мощное общественное течение, стал возникший в Париже Комитет тридцати. Он включал в себя героя Войны за независимость США маркиза Лафайета, аббата Э.Ж. Сийеса, отенского епископа Ш.М. Талейрана, советника Парижского парламента А. Дюпора, графа О.Р. Мирабо и других представителей просвещенной элиты. Мирабо стал признанным лидером Комитета. Поддерживая связь с единомышленниками по всей Франции, Комитет развернул активную памфлетную кампанию в поддержку требования удвоить представительство третьего сословия и ввести поголовное голосование депутатов. Активную роль в организации этой памфлетной кампании играл также герцог Филипп Орлеанский и его окружение.
Вторая Ассамблеи нотаблей собралась в ноябре 1788 года. Как и следовало ожидать, лишь одно из созданных бюро-комиссий поддержало предложения Неккера по двойному представительству третьего сословия, а также по порядку голосования. Это не остановило «министра-партриота». Дважды предложение выносилось на рассмотрение Королевского совета. Во второй раз 7 из 9 его членов поддержали предложение. Удалось также убедить короля и королеву. В конце декабря был опубликован доклад Неккера на Королевском совете и решение совета об удвоении числа депутатов от третьего сословия, их становилось столько же сколько депутатов от дворянства и духовенства вместе взятых. Вопрос о способе голосования оставался открытым120.
Тем временем обстановка в стране обострялась. По сути уже в декабре началось подготовка к выборам депутатов Генеральных штатов. В печати, в салонах, клубах, кофейнях шла широкая дискуссия по спорным вопросам, свобода слова де-факто стала всеобщей и повсеместной. Неккер неутомимо отвечал на поток писем и обращений, разъяснял процедуру выборов. Местные парламенты пытались чинить препоны выходу газет, брошюр, листовок, а коллеги Неккера по кабинету даже просили короля ограничить его сферу деятельности исключительно финансами121, но Неккер уже вошел во вкус большой политики.
Избирательная кампания января – марта 1789 года проходила в беспокойной обстановке. «Низы» города и деревни, измученные экономическим кризисом и растущей дороговизной, находились в крайне возбужденном состоянии. В разных местах то и дело вспыхивали волнения. В марте голодные бунты имели место в Реймсе, Марселе, Эксе. В Париже 29 апреля, уже после завершения выборов, произошли массовые беспорядки, известные как «дело Ревельона». Возбужденная ложными слухами о том, что владелец мануфактуры Ревельон якобы предложил снизить заработную плату, толпа рабочих из Сен-Антуанского предместья (среди которых не было ни одного рабочего с предприятия самого Ревельона) разгромила дом мануфактуриста. Властям пришлось применить войска, чтобы подавить восстание.
В выборах патриотическая партия приняла самое активное участие. Комитет тридцати и аналогичные ассоциации в провинции энергично поддерживали своих кандидатов, выпускали памфлеты в их поддержку, разрабатывали образцы наказов, принимавшихся затем на собраниях избирателей. Все ведущие деятели оппозиции получили депутатские мандаты.
Как и предлагал Неккер, Генеральные штаты собрались в Версале 5 мая 1789 года. Всего было избрано 1165 депутатов: половина – от третьего сословия, по 1/4 от духовенства и дворянства. Из числа представителей третьего сословия 50 процентов составляли судейские, 26 процентов близкие к ним по своему статусу и интересам лица свободных профессий, в основном адвокаты. Поскольку король так и не определил точный порядок работы Штатов, сразу же возникли противоречия относительно процедуры. Третье сословие потребовало, чтобы проверка полномочий депутатов проходило на общем собрании. Это должно было стать первым шагом к поголовному голосованию. Дворянство и духовенство, напротив, высказались в пользу традиционного порядка проверки – по палатам. Споры затянулись на пять недель.
В этом противостоянии определилась группа лидеров, возглавивших борьбу депутатов третьего сословия и вскоре получивших общенациональную известность, поскольку их выступления тиражировались оппозиционной прессой на всю страну. Это были гренобльские адвокаты Ж.Ж. Мунье и А. Барнав, аббат Сийес, видный астроном Ж.С. Байи и радя других. Наибольшим влиянием среди них обладал граф Мирабо.
Неккер выступил на открытии первого заседания Генеральных штатов с большой речью, в основном по вопросам финансирования государственных расходов. Депутаты были разочарованы. В речи не было ни разу упомянуто слова «конституция», да и финансовые аспекты тоже не впечатлили. Среди депутатов от третьего сословия, которые, как известно, приехали в Париж с практически одинаковыми «наказами» с мест, уже сложился консенсус относительно финансового кризиса, который считался прямой производной от абсолютистского правления. Депутаты требовали радикальных мер, Неккер же предполагал действовать обычными методами: экономией средств за счет сокращения расходов двора и пенсионных обязательств короны, пересмотром контрактов с генеральными откупщиками, увеличением авансов от провинций, то есть методами, которые не раз доказали свою неэффективность.
В дискуссии о порядке голосования Неккер занял половинчатую позицию, полагая, что по части вопросов можно голосовать старым порядком по сословиям, по части – поголовным голосованием в общем собрании всех сословий. На протяжении нескольких недель Неккер уклонялся от заявления своей позиции относительно конституирования единого собрания, в котором одновременно присутствовали бы все три сословия, и закрепления в нем большинства третьего сословия.
Устав от словопрений, представители третьего сословия попытались создать орган, представляющий граждан Франции. Они с 11 мая собирались отдельно от первых двух сословий, образовав так называемые «коммуны». 12 июня коммуны предложили другим сословиям присоединиться к ним. Большая часть первого сословия так и сделала, но почти все представители дворянства отказались. 17 июня коммуны объявили себя Национальным собранием. Второе сословие вступило в новое собрание за два следующих дня. На следующий день лидер третьего сословия Мирабо (дворяне не избрали его депутатом) встретился с Неккером. После встречи министр стал энергично готовить проект предложений со стороны короля по поводу реформирования Генеральных штатов и дальнейших налоговых и социальных реформ. Он, в частности, предлагал упразднить талью и заменить его общим для всего населения налогом. Предлагалось реформировать габель122 и другие акцизы. Неккер хотел закрепить и сделать неотчуждаемыми индивидуальные свободы, которые в ходе предвыборной кампании как-то сами по себе реализовались на практике, а также обеспечить равный доступ к государственным должностям всем достойным независимо от сословной принадлежности.
Неккер рассчитывал, как всегда, заручиться поддержкой Марии Антуанетты, но неожиданно столкнулся с жесткой и неприязненной оппозицией со стороны королевы. В Королевском совете 18 июня Людовик XVI поддержал подготовленный Неккером текст королевского выступления в Генеральных штатах, но на другой день под давлением Марии Антуанетты внес в него принципиальные изменения. Одновременно была предпринята попытка явочным порядком прекратить работу Национального собрания. Утром 20 июня 1789 года депутаты Национального собрания обнаружили, что зал их заседаний без какого-либо предупреждения закрыт на ремонт. Опасаясь, что это – первый шаг к их разгону, они отправились в ближайшее просторное здание – Зал для игры в мяч – и там торжественно поклялись не расходиться до тех пор, пока не дадут государству Конституцию.
23 июня Людовик XVI зачитал королевскую речь депутатам. Он отказал разночинцами в равных правах с дворянством продвигаться по государственной службе, отказался признать самопровозглашенное Национальное собрание и призвал вернуться к работе по сословным палатам. Сеньориальные права и повинности, вызывавшие особое раздражение крестьянства, сохранялись в полном объеме123.
Неккер отказался присутствовать на этом заседании, что вызвало небывалое воодушевление в народе и новый взрыв популярности министра. Одновременно Неккер подал прошение об отставке, но король и королева не приняли его. Время уволить Неккера еще не подошло, нельзя было не считаться с популярностью министра. К столице стягивались войска, и нужно было выиграть время. 9 июля Национальное собрание объявило себя Учредительным, то есть учреждающим Конституцию. Только 11 июля Неккеру объявили о необходимости срочно покинуть Францию. Известие об отъезде отставленного министра, «министра-патриота» послужило сигналом к массовому выступлению. 14 июля Бастилия как символ абсолютизма и политической реакции пала. В Париже и других городах начались бесчинства, самосуды, расправы над отдельными защитниками Старого режима. Напуганный король и воодушевленные депутаты направили Неккеру послание с приглашением вернуться, а в конце июля его уже встречали толпы народа в Париже и депутаты в Версале.
Деятельность Неккера в этот период сводилась к составлению и редактированию важнейших документов, исходивших от имени короля. Тональность этих документов была по меньшей мере противоречивой, чтобы не сказать провокационной. Неккер неожиданно сместился на позиции консерватора, даже монархиста, он стал утверждать, что исполнительная власть должна безраздельно принадлежать монарху, затягивал одобрение королем «Декларации прав человека и гражданина», утвержденной Учредительным собранием 26 августа. Декларация казалась ему чересчур радикальной. В обществе невольно создавалось впечатление, что король и королева не желают считаться с новыми реалиями.
Финансовые вопросы по сути не решались. Неккер по-прежнему предлагал традиционные, неэффективные методы сокращения расходов, а тем временем прямые налоги собирались медленно, акцизы вообще перестали поступать в казну. Неккер обратился к Учредительному собранию с предложением утвердить два займа на 20 и 80 миллионов ливров под привлекательный для вкладчиков процент, но депутаты утвердили 4,5 и 5 процентов соответственно. Займы предсказуемо провалились. Тогда Неккер предложил ввести патриотический взнос в размере одной четверти доходов граждан, который был дополнен предложением налога на серебряную и золотую посуду, драгоценности, золото и серебро в слитках. Тяжесть патриотического взноса в сочетании с невозможностью проконтролировать достоверность деклараций о доходах денег не принесли, но показали слабость государственной машины. Депутаты, со своей стороны, предложили передать государству церковную собственность, которая оценивалась в 3 миллиарда ливров, мотивируя это тем, что она является корпоративной собственностью, а следовательно не частной, которая неприкосновенна и священна. Конфискация церковных богатств, по их мнению, открывала реальную возможность погашения государственного долга. Неккер был против. Кроме того, от имени короля он направил Учредительному собранию послание, в котором выступил за возмещение упраздненных прав их бывшим владельцам, включая упраздненную церковную десятину и личные сеньориальные повинности крестьян.



