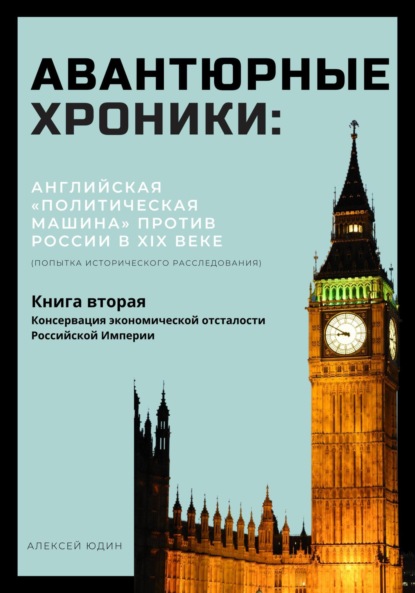
Полная версия:
Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
Самуил Бентам вернулся в Англию в 1791 году. Первым делом он начал писать в Адмиралтейство о необходимости внедрить на кораблях английского флота водонепроницаемые отсеки, какие он видел у китайских джонок. Ему удалось убедить правительство изменить конструкцию английских судов. В 1795 году Самуил Бентам, выполняя заказ Адмиралтейства, руководил постройкой серии из шести новых судов повышенной плавучести. Построенные суда имели еще целый ряд инновационных для своего времени элементов, которые позволяли выполнять ремонтные работы по такелажу и снастям непосредственно в походе.
В марте 1796 года Бентам был назначен Генеральным инспектором военно-морского строительства; на этом посту он нёс ответственность за сохранение и улучшение королевских верфей. При нём в работу верфей было внесено множество улучшений – в частности, были механизированы многие производственные процессы и начали использоваться паровые двигатели. Кроме того, Самуил сконструировал ряд деревообрабатывающих станков, которые позволили построить в Портсмуте фабрику по поточному производству судовых блоков. Патент Бентама на деревообрабатывающее оборудование от 1793 года был назван «одним из самых замечательных патентов, когда-либо выпущенных британским патентным ведомством».
Браться Бентамы возобновили практику «привечания» русских, прибывавших на берега Туманного Альбиона. Именно в этот период братьям удалось перезнакомиться со всеми молодыми русскими дворянами, которым предстояло в недалеком будущем занять важное положение при дворе Александра I. Среди этих русских оказался сотрудник русского посольства в Лондоне Виктор Кочубей, Василий Малиновский, будущий первый директор Царскосельского лицея, практически ставший учеником Иеремии. Был среди них и Николай Карамзин, будущий великий историк. В 1791 году Иеремия встречался с князем Адамом Чарторыйским. Примечательно, что встреча эта произошла в доме лорда Шелбёрна. По просьбе князя Иеремия подарил ему экземпляр своей книги «Проект нового плана организации органов правосудия во Франции», написанной в 1790 году. Самуил в это же время познакомился с Николаем Новосильцовым, еще одним «молодым другом» будущего императора. Неудивительно, что к моменту воцарения Александра I имя Иеремии Бентама было на устах у всех думающих русских, видевших в его работах универсальный ключ к решению всех проблем империи. Какие планы связывал лорд Шелбёрн с Бентамом в России не очень понятно, если, конечно, забыть о той роли, которую Бентам и другие завсегдатаи Бовуд Хауса незадолго до этого сыграли на завершающем этапе Великой французской революции 1789 года85.
Франция второй половины XVIII века
С середины XVIII века Франция пребывала в состоянии внутреннего раскола. Парижский и провинциальные парламенты86 исподволь оспаривали власть короля Людовика XV, ставя под сомнение разумность существующих государственных институтов. Оппозиционность парламентов базировалась на широко распространенном недовольстве населения. Природа этого недовольства в значительной степени имела религиозную подоснову, проявлявшуюся в борьбе иезуитов против янсенистов. Янсенисты, среди которых было много влиятельных представителей французской аристократии, не отказывались от принадлежности к католической церкви, но выступали против главенства внешней обрядовой стороны религии, противопоставляя ей внутреннее, «личное христианство». В какой-то мере янсенисты выступали против французского абсолютизма, поскольку король Людовик XIV находился под влиянием иезуитов. При Людовике XV положение изменилось и иезуиты были изгнаны из Франции, а их деятельность была запрещена. Казалось бы, оснований для недовольства не осталось. Население не испытывало серьезных материальных трудностей. Несмотря на временные проблемы в неурожайные годы, в целом XVIII век был для Франции временем устойчивого и довольно быстрого экономического роста. Сказывалось только несовершенство налоговой системы, перегруженной привилегиями для высших сословий, из-за которой французская монархия представляла собою «бедное государство в богатой стране».
Социальные брожения в значительной степени объяснялись приобщением грамотного городского населения к политической культуре того времени, для которой стали характерны так называемы памфлетные войны. Противоборствующие партии боролись друг с другом путем массового распространения грошовых памфлетов. С середины XVIII века для них стала характерна антиправительственная и антицерковная направленность. В памфлетах в популярной форме излагались идеи философии Просвещения, сформулированные Джоном Локком в конце XVII века. На французской почве английские идеи пустили глубокие корни. В 1746 году Дидро опубликовал свои «Философские мысли», в 1748 году вышел трактат Монтескье «О духе законов», в 1749 году – первый том «Естественной истории» Бюффона, в 1750 году – «Рассуждение о науках и искусствах» Руссо и «Век Людовика XIV» Вольтера, в 1751 году вышел первый том «Энциклопедии» Дидро и Даламбера, в 1755 году были опубликованы новая книга Руссо «Рассуждение о происхождении неравенства» и «Экономическая таблица» Кенэ. Эти сочинения просветителей подрывали основы христианского мировоззрения, заставляли усомниться в справедливости общественного устройства Франции. Дело дошло до того, что в январе 1757 года некий Дамьен, наслушавшись крамольных речей своего хозяина, советника парламента, попытался заколоть Людовика XV кинжалом. Общество, пришло в ужас от содеянного, оказалось, что уважение к королевской власти еще сохранялось. Более того, чудесное спасение короля вызвало всеобщее ликование.
Общественное согласие было, однако, не долгим. Напуганный покушением король отправил в отставку генерального контролера финансов Машо д’Арнувиля, налоговые реформы которого вызвали ожесточенное сопротивление не только парламентов, провинциальных штатов, духовенства, но и широких слоев городского и сельского населения, хотя намечавшиеся преобразования предполагали более справедливое распределение налогового бремени. Увольнение Машо ознаменовало начало длительного правительственного кризиса, усугубленного неудачами Семилетней войны, которая велась главным образом за далекие колонии Франции. Парламенты во время войны не только продолжали оппозиционную деятельность, но даже активизировали ее, стремясь воспользоваться ослаблением правительства для расширения своих полномочий. В Безансоне, Бордо и Руане местные парламенты при поддержке подчиненных им судов развернули кампании за устранение неугодных им представителей центральной власти в своих провинциях. Население с пониманием воспринимало действия парламентов: война в колониях не угрожала непосредственно Франции и платить новые налоги никто не хотел. За семь лет королю пришлось сменить пять генеральных контролеров финансов.
Очередную попытку усовершенствовать систему налогообложения в 1763 году предпринял новый генеральный контролер финансов Бертен. По его инициативе король издал эдикт о подготовке общего кадастра земель, включая владения короны, церкви и дворянства, что было необходимо для последующего введения единого поземельного налога. Однако, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением парламентов, которые отказались зарегистрировать этот закон, правительство сочло необходимым уступить и отозвало его. Бертен был вынужден покинуть пост генерального контролера, но успел добиться издания в том же году королевского эдикта о ликвидации ограничений в торговле зерном внутри страны и о разрешении его свободного импорта и экспорта. Эти меры, ставшие важным шагом к созданию свободного рынка, действовали до 1770–1771 годов, пока очередной неурожай не заставил их отменить.
Успехи в изгнании иезуитов и в недопущении принятия земельного кадастра вдохновили парламенты на новые активные действия по расширению своих полномочий. В 1764–1768 годах внимание всей страны оказалось приковано к конфликту в Бретани между королевским интендантом и парламентом Ренна. Дело дошло даже до временного роспуска парламента, в поддержку которого выступили местные штаты, а также суверенные суды всей Франции. Любопытно, что в своей борьбе против предпринимавшихся королевской властью попыток модернизации государственного строя такие консервативные, архаичные институты, как парламенты, широко использовали новейшие разработки философии Просвещения, в частности, естественно-правовую теорию. Напротив, правительство в стремлении к обновлению государства апеллировало к традиционным ценностям, напоминая о священном праве королей.
Королю стало очевидно, что с парламентами, архаичными судейскими корпорациями, следовало разобраться. Борьбу с парламентами Людовик XV поручил канцлеру Рене-Николя Мопу, решительному и жесткому администратору, который до назначения в 1768 году канцлером сам занимал пост первого президента Парижского парламента. Хотя предпринятая им реформа системы судопроизводства носила столь радикальный характер, что в устах современников даже получила название «революции Мопу», по уровню проработки и исполнения многие историки признают ее едва ли не образцовой. Канцлер начал с того, что дал парламентам шанс на достижение компромисса ценой отказа от их претензий на политическую власть. В декабре 1770 года король издал и внес на регистрацию в Парижский парламент «дисциплинарный эдикт», содержавший три статьи: 1) парламентам запрещалось использовать термины «единство», «неделимость», «класс» для обозначения своей общности, поддерживать контакты друг с другом и обсуждать на заседаниях ремонстрации87других палат; 2) судейским должностным лицам запрещалось прерывать судопроизводство и коллективно выходить в отставку, чем они нередко пользовались в качестве меры давления на правительство; 3) право ремонстраций сохранялось, но воспрещалось противодействовать исполнению любого нормативного акта после его регистрации.
Эдикт вызвал негодование Парижского парламента, немедленно ушедшего в коллективную отставку и приготовившегося к привычной затяжной борьбе. Однако ответ Мопу оказался беспрецедентно жестким. Советники Парижского парламента были высланы в провинцию, а их должности конфискованы. 23 февраля 1771 года вышел эдикт, согласно которому округ Парижского парламента сокращался, а сам он подлежал реорганизации. На вышедших из-под его юрисдикции территориях создавались принципиально новые виды судов – Высшие советы. Их состав назначался королем, право покупки судейских должностей и денежные поборы с участников тяжб отменялись. Эти суды не имели права ремонстраций. Должностные лица реорганизованного парламента были назначены из числа советников Большого совета и Палаты косвенных сборов, а те – ликвидированы. Во второй половине года аналогичным преобразованиям подверглись и провинциальные парламенты. Причем, сильнее других пострадали наиболее оппозиционные, например, Руанский, на месте которого были созданы два новых суда. Частичную реорганизацию претерпели и суды низших инстанций. Мопу столь быстро и решительно провел реформу, что парламенты не успели оказать организованного сопротивления. И хотя их сторонники развернули против правительства памфлетную войну, обвиняя его в «деспотизме», уже в 1772 году она постепенно сошла на нет. Реформа Мопу не только сделала судопроизводство более дешевым и эффективным, но также избавила центральную власть от постоянного противника любых нововведений.
Воспользовавшись сложившейся благоприятной ситуацией, генеральный контролер финансов аббат Террэ провел ряд мер по упорядочению финансов и сокращению государственного долга. В частности, он усовершенствовал контроль за доходами и добился повышения собираемости двадцатины88, а также пересмотрел в пользу государства соглашение с генеральными откупщиками по сбору косвенных налогов. Наметившаяся стабилизация была нарушена неожиданной смертью Людовика XV от оспы 10 мая 1774 года.
Трон унаследовал внук почившего короля Людовик XVI. Двадцатилетний юноша был очень набожен и искренне желал процветания Франции. Его подданные, уставшие от долгого царствования деда, с симпатией отнеслись к молодому королю. Людовик XVI, к сожалению, не обладал политическим опытом, был к тому же слабоволен и не самостоятелен, не имел собственной политической программы, был подвержен влиянию окружения, особенно супруги Марии-Антуаннеты. В стремлении отмежеваться от непопулярной политики деда Людовик XVI восстановил парламенты и другие суверенные суды. Узнав об этом, отправленный в отставку канцлер Мопу заметил: «Я выиграл для короля процесс, продолжавшийся триста лет. Но если он хочет его проиграть, это – его право».
Тюрго
Впрочем, необходимость реформ была очевидна даже молодому монарху. Именно для их осуществления он в августе 1774 года назначил генеральным контролером финансов Анна-Робера-Жака Тюрго. Известный экономист-физиократ, автор трудов по философии, истории и экономике, участник знаменитой «Энциклопедии», Тюрго не только пользовался уважением просвещенной части общества, но и проявил себя к тому времени способным администратором на посту интенданта Лимузена.
Считается, что у Тюрго была программа реформ, однако его деятельность на посту министра финансов в значительной мере носила реактивный характер, ибо глубокий финансовый кризис требовал незамедлительных мер. Действовал Тюрго весьма энергично и настойчиво, чем немало раздражал Людовика XVI, его приближенных и других министров, но еще больше, как утверждали современники, раздражало полное отсутствие у него такта в общении с членами кабинета, подчиненными и даже королем. Во всех министерствах он ввел режим жесточайшей экономии, упразднил целый ряд синекур, попытался положить конец злоупотреблениям в казначействе, призвал короля строже подходить к высоким назначениям и предоставлениям щедрых пенсий, аннулировал откупа на производство пороха, реорганизовал королевскую почту и провел еще целый ряд мер, направленных на сокращение государственных расходов. При Тюрго во Франции был введен порядок составления регулярного бюджета. Тем не менее радикально сократить бюджетный дефицит ему не удалось.
В полном соответствии с идеями Адама Смита Тюрго попытался отменить существовавшие монополии. Ему, в частности, удалось восстановить свободу торговли зерном и мукой, в том числе возобновить зерновой экспорт, чем он задел интересы многих влиятельных особ. К скрытому противодействию противников реформы, тайно подстрекавших против нее население, добавились неблагоприятные природные условия. Урожай в 1774 году выдался скудный, что привело зимой – весной 1775 года к резкому росту цен на хлеб. Общественное мнение сочло дороговизну следствием реформы. По Франции прокатилась волна продовольственных волнений, получивших название «мучной войны». Тюрго предпринял решительные действия по наведению порядка. Некоторые участники стихийных выступлений были казнены.
Тюрго отменил также винные привилегии Бордо и ряда других городов и установил полную свободу торговли вином. Он упразднил средневековые цехи, душившие свободу конкуренции между промышленниками своими многочисленными ограничениями и запретами, чем взбудоражил городское население. Более того, иностранцам было предоставлено право свободно работать во Франции. Тюрго даже планировал приглашать во Францию английских инженеров, мастеров и рабочих, чтобы побыстрее перенести передовой опыт на французскую почву.
Уже на излете своей короткой правительственной карьеры, в конце марта 1776 года Тюрго добился того, чего за семь лет до этого не смог добиться аббат Морелле. Король подписал эдикт об учреждении Учетной кассы (Caisse d’Escompte) в виде партнерства с ограниченной ответственностью. Термин банк не стали использовать сознательно. Со времен аферы Джона Ло и краха его Генерального банка в 1720 году при слове «банк» французы содрогались. Новый банк, а это не деле был несомненно, банк, создавался по образцу Банка Англии. Это дает основание современным исследователям утверждать, что Учетная касса является предшественником Банка Франции. Можно усомниться в обоснованности подобного утверждения. В отличие от Банка Англии новый банк не получил права эмитировать банкноты, которые приравнивались бы к законному платежному средству наряду со звонкой монетой. Тюрго к тому времени уже растерял свое влияние на кабинет, лишился доверия короля и ему не удалось отстоять первоначальный план. По сути, функция нового банка по управлению государственным долгом сводилась к примитивному привлечению денежных средств рантье и финансистов за счет размещения акций банка. Он был призван заменить так называемые частные королевские банки, которые по своим финансовым возможностям оказались недостаточно мощны и королю приходилось их регулярно менять.
Организация деятельности Учетной кассы была поручена Исааку Паншо, швейцарско-британскому банкиру, который обосновался во Франции и стал активным участником дискуссий в парижских салонах и на страницах газет по поводу финансового положения Франции. Капитал банка был составлен за счет выпуска 5 тысяч акций номиналом в 3 тысячи ливров на общую сумму в 15 миллионов ливров. Полностью разместить акции не удалось, было привлечено около 12 миллионов ливров, 6 из которых были немедленно переданы в государственное казначейство. Шести миллионов, оставшихся в распоряжении банка, оказалось недостаточно для организации массовых операций по учету векселей, что стало основным видом операционной деятельности банка. Вследствие недостаточности капитала банка учетные операции не приносили тех доходов, на которые рассчитывал Тюрго, а банк не мог предложить своим акционерам привлекательные дивиденды. Это, в свою очередь, вызвало снижение интереса к акциям банка и снижение их котировок на бирже. Еще одним источником слабости Учетной кассы стало отсутствие в ее уставе требования об обязательном формировании резервов на случай массовой продажи акций, что таило в себе риск банкротства. Надо сказать, что этот риск впоследствии неоднократно реализовывался, особенно в 1780-х годах, когда акции банка на фоне охватившей страну биржевой лихорадки стали объектом рискованных спекуляций. В момент создания банка этот риск был, по всей видимости, неочевиден, и кроме того Тюрго было не до того.
Политика Тюрго сталкивалась со все более активной оппозицией со стороны восстановленных парламентов. Судейские, демагогически объявляя себя защитниками народа, требовали возврата к регламентации торговли. Король, в силу мягкого характера питавший отвращение к любого рода конфликтам и стремившийся по возможности их избегать, начал тяготиться министром, доставлявшим ему столько хлопот. Увольнение Тюрго от должности положило конец краткому периоду всемерной экономии государственных финансов. Новый глава финансового ведомства (1776–1781) Жак Неккер придерживался иной линии. Он был убежден, что большие расходы государства – это благо, поскольку большее количество денег в обращении есть верное средство увеличения спроса со стороны населения на промышленные товары и продукцию сельского хозяйства и, соответственно, увеличения их производства.
Первое министерство Неккера
Существует версия, согласно которой в 1768 или 1769 году Жак Неккер ушел из своего парижского банка, доверив управление своему старшему брату Луи, до того профессору математики в Коллеж дё Женев. Он располагал капиталом от 7 до 8 миллионов ливров и готовился поучаствовать в политической жизни Франции несмотря на то, что оставался гражданином Женевской республики и был протестантом в католической стране. Историк Э. Люти, ставит, однако, под сомнение эту версию. По его мнению, Неккер никогда не переставал заниматься делами банка89, даже в бытность де-факто министром финансов Франции.
Существует еще одна версия, объясняющая причины, по которым Неккер решил окунуться в политику. Согласно этой версии сам он, будучи человеком, несомненно, умным, но малообразованным, абсолютно несветским, застенчивым до заносчивости, был бы вполне удовлетворен успехами на банковском поприще и своим банковским окружением. Только уступая настойчивому желанию своей супруги, Сюзанны Некер, в девичестве Кюршо90, он якобы согласился нести этот крест. Следует признать, что Сюзанна Кюршо, дочь бедного пастора из Красье (Швейцария, деревушка недалеко от Женевы), была действительно неординарная женщина. Миловидная и обаятельная она получила блестящее и удивительно разностороннее для женщины того времени образование, обладала политическими амбициями, которых вполне могло хватить на двоих. Ее парижский салон был едва ли не самым блестящим в столице. В нем собирались все наиболее известные парижане той поры от высших аристократов до самых знаменитых ученых, писателей, поэтов, художников. С 1772 года по средам, перед отправкой очередного донесения в Лондон, захаживал в этот салон английский посол, лорд Стормонт, чтобы услышать последние новости91.
Как уже отмечалось, посещал салон мадам Неккер и такой видный представитель школы физиократов как аббат Морелле, часто критиковавший будущего министра финансов и его «отнюдь не либеральные взгляды в вопросах экономики». Вполне возможно, что критика аббата и его сторонников вопреки их желаниям сделала рекламу Неккеру92, заставила обратить на него внимание первого министра Людовика XV герцога Шуазеля и министра финансов аббата Террэ. Но, надо думать, еще более убедительно действовали крупные суммы, которые Неккер, начиная с 1772 года, одалживал королевской казне
Несомненно, также сыграла свою роль и публицистическая деятельность Неккера. Некоторые историки склонны полагать, что здесь опять не обошлось без участия мадам Неккер. Вполне возможно, что она действительно принимала участие в этой деятельности, возможно, даже лично готовила первые публицистические статьи и памфлеты, которые выходили за подписью Неккера. Читающая парижская публика следила за новыми авторами и отмечала удачные публикации на злободневные темы, а тема государственных финансов, пребывавших в кризисе93, несомненно, к таким относилась. Статьи и памфлеты за подписью Неккера помогли создать образ крупного государственного мужа, даже патриота, который печется об интересах Франции как о своих собственных. Изданная в 1773 году «Похвала Кольберу», в которой Неккер отдал должное великому французскому финансисту и представил потрет идеального министра, позволяла увидеть и в самом Неккере некоторые сходные черты. Французская академия дала высокую оценку работе Неккера, что стало важным вкладом в укрепление авторитета «нового великого финансиста», гибкого и прагматичного государственника, прямо противопоставив его «либеральным доктринерам» типа аббата Морелле и Тюрго.
При этом все как бы забыли о том, что Неккер протестант, и это значит, что ему закрыт доступ в Королевский совет, что он даже не гражданин Франции, что у него нет никакого правительственного опыта, что он не знает придворной жизни, что он не знаком с французской историей, политической и административной организацией французского общества и вообще ничего не читает. Трудно сказать, насколько обоснованными были столь противоречивые оценки личности Неккера. Скорее всего, это результат его повышенной скрытности, и вероятнее всего, он был не так неотесан, как утверждали его злопыхатели. Да и политическими амбициями он, как представляется, обладал, вот только цели его стремления окунуться в политическую жизнь Франции были не совсем понятны, особенно в свете его действий, которыми он подвел под фактическое банкротство французскую Ост-Индскую компанию, главного конкурента английской компании с аналогичным названием.
В 1775 году Неккер опубликовал новую работу «Очерк законодательства и торговли зерном», в котором он камня на камне не оставил от идей физиократов о необходимости либерализации рынка зерна, на чем настаивали Морелле и Тюрго. Общественный успех очерка, который появился в разгар так называемой «мучной войны», вызванной серией неурожайных лет, был необычайным. Во всех парижских салонах говорили только о Неккере и его идеях. Самое главное – он получил долгожданную поддержку Морепа, в прошлом воспитателя, а теперь главного советника нового короля, Людовика XVI. Король еще колебался. После отставки Тюрго в мае 1776 года новым министром финансов был назначен Клюни дё Ньюи, но в октябре того же года он скоропостижно скончался. Настал час Неккера. Однако как протестант он не мог занять пост генерального контролера финансов, поскольку это влекло за собой право заседать в Королевском совете. В октябре 1776 года в возрасте 44 лет он был назначен финансовым советником и генеральным директором королевского казначейства. Официально генеральным контролером стал Табуро де Реё, но все властные полномочия министра де-факто принадлежали Неккеру, а после того как в июне следующего года Табуро де Реё подал в отставку, Неккер получил громкий титул генерального директора по финансам и полную свободу выполнять свои обещания. В Королевский совет его не допустили.
Как утверждают, у Неккера была выработана концепция активного вмешательства государства в экономическую и социальную сферу, которая, по его словам, базировалась на принципах Кольбера. Утверждают, что он был убежденный противник физиократов и полностью отрицал способность политики полной свободы предпринимательства (laisser faire..) самопроизвольно обеспечить благополучие граждан. Равновесие и гармония в обществе, по его убеждению, могли быть достигнуты только за счет полноценного содействия со стороны государства наиболее необеспеченным слоям общества. Однако, в конечном счете, назначение Неккера на высший финансовый пост было связано главным образом с необходимостью обеспечить финансирование войны с Англией. В Америке восстали 13 английских колоний, потребовавших предоставления независимости. Английский посол, лорд Стормонт уверял всех в салоне мадам Неккер, что победа королевской армии неизбежна как смены сезонов, но симпатии большинства европейских стран были на стороне восставших. А после капитуляции одной из двух британских армий под Саратогой в октябре 1777 года, когда стала очевидной способность американских повстанцев вести серьезные военные действия, возникла ситуация, которая позволяла Франции поквитаться с Англией за потери, понесенные по итогам Семилетней войны. Во всех парижских салонах говорили о том, что Неккер знает как профинансировать военные расходы и не повышать при этом налоги. Он действительно утверждал, что если сбалансированы обыкновенные бюджетные доходы и расходы, государство может до бесконечности прибегать к заимствованиям, чтобы обеспечить чрезвычайные расходы. Вместе с тем сам Неккер был против войны с Великобританией. Он даже попытался вести переговоры через английского посла в Париже лорда Стормонта и при невыясненных обстоятельствах встречался с английским премьер-министром, лордом Нортом94. Возможно, это произошло в 1776 году, когда Неккер побывал в Лондоне по делу французского посла, уличенного в незаконных операциях на лондонской бирже.



