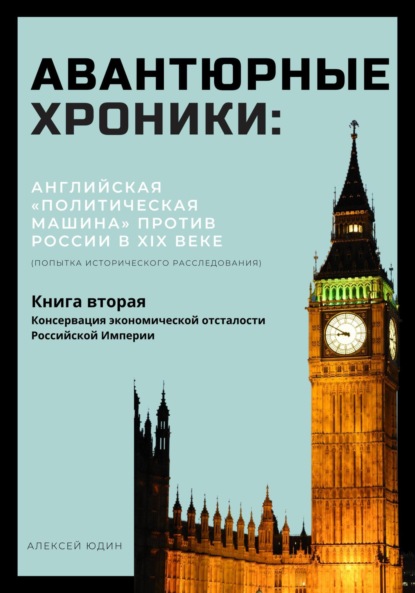
Полная версия:
Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
Английские современники оценивали труд А. Смита неоднозначно, справедливо отмечая, что в книге Смита умело и ярко совмещались порой взаимоисключающие концепции. Это превращало их в «универсальную идею» и позволяло многочисленным некритически настроенным последователям разрабатывать необходимые идеологические построения. Йозеф Шумпетер, известный экономист и социолог XX века, прямо писал, что «Богатство народов» заслужило выпавший на его долю успех, хотя и не содержало ни одной по-настоящему новой идеи. Однако главное было сделано – в европейский оборот были запущены идеи фритредерства, которые с интересом воспринимались в странах, с некоторым отставанием от Англии вставших на путь капиталистического развития и еще не осознавших опасность английского «идейного оружия». Главной целью английских идей была на тот период Франция, пытавшаяся догонять Англию по уровню развития промышленного производства, но досталось всем. Политика свободной торговли между Британией и Соединенными Штатами чуть не уничтожила американскую республику в колыбели. Но американские отцы-основатели быстро поняли, какая опасность содержится в шелбёрнской свободной торговле, и закрылись от конкурентов из Европы таможенными барьерами. А вот в России, где не только декабристы увлекались новыми концепциями, об опасности идей Смита периодически «забывали» и время от времени внедряли фритредерские принципы в таможенную политику, оставляя национальных производителей без защиты.
Остается только ответить на вопрос – действительно ли Адам Смит слушал физиократов в Париже и больше помалкивал? Как утверждает в своих мемуарах один из активнейших членов французской «философской партии», соратник энциклопедистов, аббат Андре Морелле, который уже упоминался как член-корреспондент «Кружка Бовуд», Смит много раз беседовал с Тюрго о теории торговли, банках, государственном кредите и других вопросах «большого сочинения», которое замышлял будущий французский министр финансов. Комментировал ли Смит высказывания Тюрго, давал ли советы, требовал ли разъяснений, выражал ли эмоциональную реакцию, то есть делал ли все то, без чего живой, тем более неоднократной беседы не получится, Морелле, к сожалению, не сообщил.
Впрочем, можно попытаться ответить на этот вопрос. Прежде всего, следует учитывать, что Франция времен Тюрго была разоренная войнами аграрная страна, 85 процентов населения составляли крестьяне. Во Франции уже действовали достаточно многочисленные мануфактуры: шелковые, хлопчатобумажные, стекольные, зеркальные, но всё-таки в структуре промышленности преобладали ремесленные мастерские, производившие, главным образом, предметы роскоши. Даже знаменитая Лионская мануфактура, изготовлявшая шелковые гобелены, использовала ручной труд мастеров надомников. Большие мануфактуры, в основном государственные, обслуживали заказы армии и флота. Успехи английской промышленности, где уже внедрялись паровые машины, вызывали понятные восхищение и даже зависть французских предпринимателей. Во многих отношениях Тюрго должен был рассматривать британский опыт развития как образец для подражания. То, что это было действительно так, подтверждает его практическая деятельность на посту министра финансов. Когда в 1774 году Людовик XVI взошел на трон, то по совету своего воспитателя Морепа он назначил Тюрго, ставшего уже известным политэкономом, главным интендантом финансов. Следует отметить, что деятельность Тюрго на этом посту много поспособствовала подготовке почвы для Великой французской революции, но об этом будет рассказано ниже.
Бентам и Бовуд Хаус
Личность, творчество и жизненный путь легендарного английского правоведа, философа, политолога и политтехнолога, хотя тогда таких специальностей не существовало, Иеремии Бентама описаны в многочисленных трудах, но от этого образ легендарного ученого не становятся менее загадочным. Во многих отношениях этот человек был столь же странен, сколь и талантлив. Обстоятельства появления Бентама в окружении лорда Шелбёрна довольно любопытны и дают некоторое представление о «вкусах» самого лорда. В 1777 году или чуть позже, по некоторым данным в 1781 году, лорд Шелбёрн прочитал книгу неизвестного автора, озаглавленную «Фрагмент о правительстве» (A Fragment on Government). Книга была посвящена критике взглядов юриста У. Блэкстона на проблемы государственного управления. Неизвестный автор указал на «громадную и фундаментальную ошибку» Блэкстона – его «антипатию к реформе» и чрезмерную приверженность традиции («счастливой конституции» Англии). Книга была написана блестящим языком, чего в дальнейших сочинениях Бентама практически не встречалось. Читающая публика была уверена, что труд принадлежит перу какого-то знаменитого юриста, политического или общественного деятеля. Надо полагать лорду Шелбёрну не составило труда выяснить действительное имя автора и открыть молодому, никому еще не известному человеку двери в великосветские салоны британской аристократии. С того времени, Бентам, вундеркинд и талантливый выпускник оксфордского Куинз Колледжа, отказавшийся от карьеры блестящего адвоката, стал постоянным гостем в имении Бовуд, загородной резиденции лорда Шелбёрна. Именно здесь были задуманы и написаны, многие его работы. Здесь же он познакомился с Этьеном Дюмоном, уже упоминавшимся «революционером из Женевы». Бентам и его идеи произвели на Дюмона огромное впечатление. На долгие годы он стал редактором большинства бентамовских сочинений, соавтором и в некоторых случаях «переводчиком» с «бентамовского» на французский. Только благодаря Дюмону большинство сочинений Бентама увидели свет и стали известны европейской читающей публике, поскольку были написаны по-французски, языке европейских интеллектуалов того времени. Бентам не придавал никакого значения форме изложения и часто бросал работу незавершенной. При этом плодовитость его была невероятной. В Британском музее, где хранится его архив, насчитывается более 60 тысяч единиц хранения, большая часть из которых до сих по не разобрана и не описана.
Анализировать здесь творчество Бентама не имеет смысла: о нем и так много написано, при этом следует иметь в виду, что споры вокруг толкования его текстов не прекращаются до сих пор, поскольку в его теориях содержалось много противоречивых, иногда взаимоисключающих идей. Резко критикуя, например, теорию «общественного договора» Локка, и развитую Ж.-Ж. Руссо, как возбуждающую дух восстания, он тем не менее много сделал для дела Французской революции. Об этом будет рассказано особо. Он отстаивал идею свободной торговли и ничем не стеснённой конкуренции, утверждая, что это есть основа и путь к достижению спокойствия общества, способ достичь всеобщей справедливости и равенства. Бентам выступал как сторонник свободы слова, отделения церкви от государства, женского равноправия, права на развод, запрещения рабства, пыток и телесных наказаний, отмены наказаний для гомосексуалистов. По сути, его творческую деятельность можно рассматривать как одну из первых попыток изменить систему христианских ценностей, сломать остатки традиционных общественных структур, обосновать природную естественность индивидуализма, вырвать отдельного человека из системы общественных и семейных связей, сделать его восприимчивым к новым «удобным» ценностям нарождавшегося общества капитала, повысить степень его некритичности к внешним манипуляциям. Видимо, далеко не случайно архив Бентама до сих пор не открыт полностью, а его наследие до конца не изучено. В 1998 году на базе петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН была проведена международная конференция, посвященная 250-летию со дна рождения И. Бентама. В ней приняли участие историки, философы, правоведы из Англии, США, Канады, ЮАР, Нидерландов, России и других стран. Работа конференции проходила в шести секциях, рассматривавших различные аспекты жизни и творчества знаменитого ученого, в выступлениях участников содержалось много новых биографических фактов и оценок его идейного наследия. И тем не менее Бентам как личность и ученый продолжает оставаться загадкой, его сочинения до конца не поняты, их цели не прояснены80, что, впрочем, справедливо и для его практической деятельности81. Последний аспект следует подчеркнуть. Отказавшись от карьеры блестящего адвоката и разочаровавшись в английской юриспруденции, Бентам решил посвятить свою жизнь изучению общественного устройства в целом, подвергнув его системному анализу со всех точек зрения: политической, экономической, правовой, социальной. При этом цель такого анализа была сугубо практической – «исправить недостатки, уврачевать несправедливости, искоренить злоупотребления». Однако как конкретно он намеревался достигать поставленные цели, оставалось неясным.
Не очень также понятно, что именно привлекло внимание Шелбёрна в самой первой книге Бентама. Возможно, ключ к пониманию притягательности идей Бентама следует искать в одной из работ автора, отредактированной и опубликованной Этьеном Дюмоном в 1791 году. Работа касалась событий в революционной Франции и называлась «Эссе по поводу политической тактики». Более точно название этой работы звучит по-французски – «Эссе по поводу тактики в законодательных собраниях» («Essai sur la tactique des assemblées législatives»). Скорее всего, именно талант политолога, точнее политтехнолога, умение видеть тонкости взаимодействия между монархом, законодательной и исполнительной ветвями власти, а главное – умение использовать их в практическом плане, отразившиеся в книге, показались лорду Шелбёрну полезными. Вскоре Бентаму предоставилась возможность проверить их на практике.
Иеремия и Самуил Бентамы в России
Следует, вероятно, напомнить, что лорду Шелбёрну не нашлось места в правительстве Питта Младшего и якобы с того времени, в середине 1780-х годов, он начал создавать новую специальную службу, которая стала прообразом современной MI6. На самом деле это не совсем точное утверждение. Судя по всему, как глава «венецианской партии», верный традициям венецианской разведки, он никогда не прекращал заниматься выведыванием иностранных секретов, вербовкой ценной агентуры и созданием благоприятных условий для распространения британского влияния в мире. Если верна легенда о том, что идея сочинения «О богатстве народов…» была подсказана Адаму Смиту Шелбёрном, где-то в середине 1760-х годов, то ее следует рассматривать, возможно, как один из первых примеров участия графа в «войне идей». Затем последовал «проект Америка», а затем наступила очередь Бентама.
В августе 1785 года Бентам двинулся в далекий путь. Он ехал в Россию, где уже находился его младший брат Самуил Бентам. Интерес братьев Бентамов к России был отнюдь не случаен. Сразу же по окончании Оксфорда Иеремия вместе с младшим братом Самуилом завязал контакты в русской колонии в Лондоне. Современный английский исследователь из Кембриджа Э.Г. Кросс, много лет занимавшийся изучением русских связей братьев Бентамов82, установил, что около 1768 года Иеремия познакомился в Лондоне с Михаилом Ивановичем Татищевым, который около 2 лет проработал переводчиком в русском посольстве. Встреча произошла в доме преподобного Джона Фостера, побывавшего в России между 1744 и 1749 годами в качестве частного священника герцога Гинфорда. В тот период герцог был послом его величества в России.
У Иеремии и Татищева нашлись общие интересы. Бентам, в частности, предложил сделать перевод для Екатерины II лекций своего учителя Уильяма Блэкстона, модного тогда профессора права Оксфордского университета. Кроме того, Татищев работал над наказом-инструкцией императрицы для комиссии по подготовке нового гражданского уложения, сформированной в 1767 году. Тогда у Иеремии впервые возникла мысль предложить свои услуги русской императрицы как специалиста-кодификатороа, но практического продолжения она тогда не получила. Вскоре Татищев вернулся в Россию, но переписка между ними продолжалась. Последнее упоминание Бентамом имени Михаила Татищева относится к 1778 году. В письме преподобному Фостеру, который в это время вновь находился в Петербурге, он выразил желание оказать услугу просвещенной русской императрице на ниве кодификации. По его словам, императрица Екатерина II являла собой редкий пример правителя с философским складом ума, и для него было бы большой честью принять участие в модернизации русского законодательства. Бентам подсказал Фостеру, что он мог бы воспользоваться для этого помощью Михаила Татищева. В письме он также сообщил о планах своего брата инженера Самуила Бентама попытать счастья в России, поскольку его сотрудничество с британским Адмиралтейством не заладилось, и он, как опытный кораблестроитель, склонный к инновациям и изобретательству, мог бы оказать русскому кораблестроению ценную помощь.
Татищевым знакомства братьев Бентамов с русской колонией не ограничивались. В 1760-е и особенно в 1770-е годы в Англию хлынул поток русских, желавших пройти курс обучения в британских университетах по сельскому хозяйству, по строительству каналов, по литью пушек, по дистилляции напитков, но главное – по навигаторскому искусству, послужить в английском военном флоте или поработать не верфях. Во главе всей этой активности стоял большой англофил, русский посол Алексей Семенович Мусин-Пушкин, которому активно помогал священник русского посольства Андрей Афанасьевич Самборский, интересы которого выходили далеко за пределы вопросов духовных. Иеремия познакомился с Самборским в самом начале 1779 год и они сдружились «ближе чем воры». Так сам Иеремия написал в письме Самуилу. Через Самборского Иеремия надеялся найти для брата учеников в Петербурге, а также поискать возможности в России и для себя самого. В доме Самборского он познакомился со множеством русских, приезжавших в Англию. Самуил тоже завел знакомства в русской колонии, главным образом среди русских корабелов и офицеров флота. Среди новых знакомых братьев оказался Василий Петров, весьма эрудированный ученый и поэт, библиотекарь Екатерины II. Он прибыл в Англию как компаньон одного из придворных императрицы. Позднее его помощь оказалась весьма полезной Самуилу, когда он добрался до Петербурга. Он мог также рассчитывать на помощь в Петербурге Мусина-Пушкина и отца Самборского, срок службы которых в Лондоне завершился в 1779 году. Самуил в том же году отправился в Россию, прихватив с собой 86 рекомендательных писем. Письма оказались полезными – Самуил получил под свое командование казачий батальон в 1000 конников и несколько пушек, и в 1782 году во главе войска отправился изучать Сибирский тракт, главную сухопутную дорогу из России в Китай. Об изучении этого тракта английские купцы мечтали со времен Ивана Грозного. В Китае Самуила заинтересовала конструкция китайских джонок, корпус которых разделялся на водонепроницаемые отсеки. Позднее в Англии после назначения на должность генерал-инспектора военно-морского строительства младший Бентам пытался внедрить это новшество и в британском флоте.
В России Самуил продолжал знакомиться с русским обществом, особо его интересовали русские морские офицеры. В круг его знакомств попали Сергей Плещеев, Николай Корсаков, Николай Мордвинов. Плещеев так долго служил в английском флоте, что забыл русский язык и был вынужден учить его заново. Масоном он стал еще во Франции в 1788 году, а в 1792 году был принят в московские розенкрейцеры. Корсаков изучал строительство каналов в Англии, учился в Оксфорде и Эдинбурге. Николай Мордвинов был послан для усовершенствования в морском искусстве в Англию, где пробыл 3 года, послужил на английском военном флоте и на кораблях Ост-Индской компании, познакомился с английским бытом и воспитал в себе симпатии к английским учреждениям. Словом, это были настоящие англофилы. Плещеев сражу же пожелал жениться на сестре Самуила. Корсаков также просил найти ему английскую жену, а Мордвинов уже был женат на англичанке. С Плещеевым, обладателем редкого лингвистического таланта и превосходного знатока английского языка, Самуил подружился.
В 1784 году Самуил оказался на службе у светлейшего князя Потемкина, в его белорусском имении в Кричеве. Светлейшему очень хотелось «пересадить» передовой английский опыт на русскую почву. В Кричеве Самуил попытался реализовать некоторые инженерные замыслы. К сожалению, большинство проектов, включая строительство корабля-амфибии, который мог бы передвигаться как по воде, так и по суше, окончились ничем. Светлейший князь желал наладить в России производство паровых машин по английским технологиям, но Самуил убедил его, что «в этом нет никакой необходимости». Вместо этого он предложил построить громадный фабрично-ремесленный фаланстер, предназначенный для размещения двух тысяч работников всех возрастов, в том числе детей, которые, «качаясь целыми днями на качелях и каруселях», должны были приводить в движение разнообразные станки. По слухам, единственным практическим результатом его деятельности стало строительство судна, на котором Екатерина и сопровождавшая ее свита спустились вниз по Днепру в Новороссию, а далее проследовала в Крым.
Потом вспыхнула война с Турцией, князь Потемкин должен был оставить Кричев и отправиться в действующую армию в качестве ее главнокомандующего. Самуил последовал за светлейшим, храбро дрался с турками, был удостоен наград и дослужился до генеральского звания. «Досадуя» на свои инженерные неудачи, он не терял надежды «принести пользу» России и добился приглашения от Потемкина для своего старшего брата. Иеремия вступил в переписку с Потемкиным и был очень недоволен медлительностью князя, который отвечал на его письма с большими задержками. «Я все еще жду писем из Петербурга, – жаловался он в 1785 году одному из своих друзей. – По грехам моим, имею дело с ленивейшим человеком самого ленивого народа на земле Всемогущего Бога. Я ему пишу одно письмо за другим, по его же личным делам… Он этим, как говорят, очень доволен. Вы полагаете, что он отвечает? Ничуть не бывало. Приказывает переводить по-русски мои письма, писанные на собачьем французском языке, dog French. Для какой цели – неизвестно, во всяком случае, не для себя, потому что он прекрасно владеет обоими языками». Наконец, Иеремия получил приглашение от Потемкина приехать в Кричев, а также его просьбу собрать сведения о новшествах в области земледелия, садоводства, мануфактуры и торговли. Князь также направил Иеремии 500 фунтов на дорожные расходы.
Бентам поехал за свой счет, а на 500 фунтов князя отправил в Кричев ботаника и двух женщин, хорошо изучивших молочное хозяйство, для образцовой фермы, которую Потемкин хотел устроить у себя в имении. Путь лежал через Париж, где Иеремия очень хотел навестить д'Аламбера и других энциклопедистов, с которыми состоял в переписке, но «врожденная застенчивость» помешала ему привести в исполнение свой замысел. В Ницце он сел на корабль и после разных перипетий добрался до Константинополя. Здесь он встретился с русским послом Булгаковым. Он был готов к встрече с неотесанным варваром, но, к его удивлению, красавец и интеллектуал Булгаков ни в чем не уступал своим европейским коллегам-дипломатам. В Константинополе Бентам пробыл полтора месяца, а затем продолжил путь через Болгарию и Румынию. В середине января 1786 года Иеремия проездом был в Кременчуге, где обедал у губернатора, причем был поражен неопрятностью обывателей и их страстью к карточной игре.
В России Бентам прожил почти два года. Понять смысл и цель его столь далекой и столь долгой поездки непросто. По прибытии в княжеские поместья Бентам избрал своей резиденцией не Кричев, центральный пункт потемкинских имений, а близлежащее село Задобра, где он провел все время своего продолжительного пребывания в России в полнейшем уединении, занимаясь усидчиво научными трудами. Как пишут его биографы, единственными его развлечениями были музыка, чтение, переписка с друзьями, оставленными в Англии, и разведение цветов, чему он отдавался со страстью. Исследователи восхищаются углубленностью Бентама в свои научные занятия, подчеркивая, что он даже не подумал принять участие во встрече императрицы в Кричеве, когда она совершала свою знаменитую поездку по Югу России. Понять отказ представиться императрице трудно, особенно с учетом прежних намерений Бентама послужить Екатерине II на поприще кодификации русского права.
Еще более удивительно звучит утверждение Бентама о том, что за почти два года, проведенных в России, он хорошо изучил эту страну. Как ни странно это может показаться, но можно предположить, что это и было главной целью его путешествия – проанализировать состояние российского общества, хозяйства, армии и флота – но тогда, принимая во внимание его безвыездное и уединенное проживание в Задобре, невольно напрашивается вывод о том, что информацию о России он скорее всего получал в письмах от неизвестных корреспондентов, систематизировал ее и подвергал углубленному анализу. Анализ – это был его конек, как утверждают биографы ученого-практика. Одним из его постоянных корреспондентов был брат Самуил, переписку с которым никогда не прерывалась. Самуил писал подробнейшие письма, а Иеремия постоянно требовал уточнений и ставил перед братом множество дополнительных вопросов83. Нельзя также исключать, что уединенное село было не случайно выбрано Бентамом как место постоянного пребывания: вдали от Кричева было удобнее принимать гостей, которым, вероятно, было бы желательно сохранить инкогнито. В принципе, деятельность Бентама в России мало отличалась от того, что делали в России английские писатели и путешественники и до него, и после. По крайней мере, это дает логическое объяснение далекой и долгой командировке Бентама, тем более, что какой-либо информации о советах английского философа Потемкину по вопросам сельского хозяйства, мануфактур и торговли до нас не дошло. Нет даже подтверждений того, что он встречался со светлейшим князем. Впрочем, никакого труда по России Бентам также не оставил, хотя возможно среди неопубликованных работ британца могут найтись материалы, относящиеся к его русскому путешествию.
Известно, что пребывание в России Бентам использовал также для продолжения своих научных изысканий, и написал несколько трактатов. Не имея под рукой своей библиотеки, он взялся за новые для него предметы. Среди написанного Бентамом в России выделяется его работа 1787 года «Защита лихвы» («Defense of usury»), которую он посвятил изучению вопроса о ростовщичестве и недопустимости вмешательства государства в частные договорные отношения граждан между собою. «Результат моих размышлений об этом предмете, – писал Бентам, – сводится для меня к следующему: ни одному человеку, достигшему возраста умственной зрелости, обладающему здравым смыслом, действующему вполне свободно и со знанием дела, нельзя помешать даже из соображений, направленных к его выгоде, совершить, как он понимает, известную сделку, с целью достать себе денег. Следовательно, никому нельзя помешать дать ему в долг, на условиях, которые он охотно принимает». Подробно разбирая все аргументы против законодателя, имеющего право ограничивать свободу денежных займов, он доказывал их очевидную нелепость. «Ведь не вмешивается же государство в торговлю лошадьми, а чем торговля деньгами лучше или хуже лошадиного барышничества?» Книга имела успех, но специалисты приписывали его бойкому языку, редко встречающемуся в других работах Бентама, не отредактированных Дюмоном. Вместе с тем, нового в ней было мало, по сути, это была еще одна попытка оправдать возможность зарабатывать, не производя реальных ценностей, а главное – строить промышленное развитие стран на основе заемного капитала.
Другой труд, написанный Бентамом во время пребывания у Потемкина, был основан на заимствованной у брата Самуила идеи «Паноптикона». Иеремия переделал идею мануфактурного «Паноптикона» в проект о рациональном устройстве тюрем, построенных в виде больших круглых в плане фаланстеров с открытыми помещениями, в которых заключенные в составе рабочих артелей могли бы производитель полезные изделия. Незаметный надзор за заключенными выполняли бы немногочисленные охранники, помещенные в расположенную в центре фаланстера башню. Оплата службы охранников не предусматривалась, поскольку они имели бы возможность выгодно сбывать произведенные в тюрьме товары. Можно было бы посчитать идею Паноптикона вздорной, если бы в течение многих последовавших лет Иеремия не пытался ее реализовать и даже убедил Питта Младшего профинансировать необходимое проектирование, а затем и приобрести участок земли под строительство. Впрочем, реализовать проект так и не удалось. Следует добавить, что построить Паноптикон Бентам предлагал и французскому правительству после Французской революции.
В ноябре 1787 года Бентам покинул пределы России и, не без труда, проследовав через Польшу, Пруссию и Голландию, возвратился на родину. Он не переставал интересоваться русскими делами, ходом военных действий, русской армией и русскими финансами и после возвращения. Брат его, имевший большие связи в высшем обществе, сообщал ему подробные сведения обо всем, происходившем в Империи84. Нельзя исключать, что у Иеремии были и другие корреспонденты в России.



