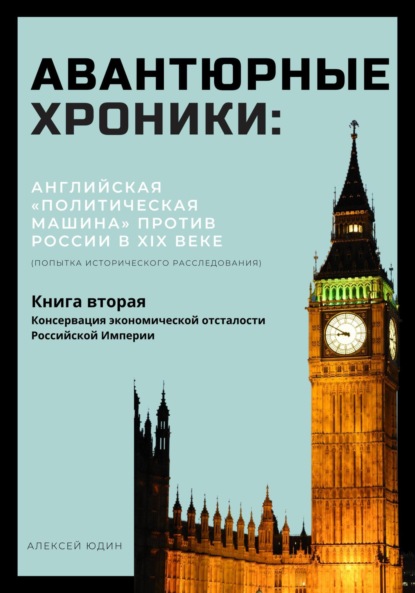
Полная версия:
Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
Первыми студентами, зачисленными в училище 28 июня 1774 года, стали 19 студентов Московского университета, уже изучившие основы химии, арифметики и геометрии, немецкого, французского и латинского языков, 4 пробирных ученика из химической лаборатории Берг-коллегии и 6 своекоштных учащихся. Первый отряд горных офицеров был выпущен из училища в ускоренном порядке уже в 1776 году. К концу века в Горном училище обучались уже 108 человек.
Только через 36 лет в России было создано второе высшее учебное заведение инженерного образования – Институт Корпуса инженеров путей сообщения. Начальником института стал знаменитый инженер-механик Августин Бетанкур (по национальности испанец), которого Наполеон представил Александру I в Тильзите. Наполеон разрешил Бетанкуру отправиться в Россию и, кроме того, «прислал Александру четырех лучших учеников Политехнической школы в Париже: Базена, Потье, Фабра и Дестрема». Так что институт представлял собой «совершенно французское училище», созданное Бетанкуром по образцу французского Корпуса дорог и мостов160.
Таким образом, к началу царствования Александра I в России можно было встретить немало образованных людей, которые могли общаться между собой не только по-русски, но и по-французски и даже на других европейских языках. В остальном широта и глубина их образования редко стыковалась: кто-то получал образование на дому, кто-то в частных пансионах, кто-то в новых екатерининских всесословных школах. Везде программы обучения, кроме екатерининских школ, были разными, поэтому образованные люди не представляли собой единого культурного, интеллектуального пространства. Выпускников Московского университета было еще немного, гораздо больше молодых людей из числа высшего дворянства получали образование за границей, главным образом в германских университетах, во Франции. Мода на английские университеты возникнет только уже в царствование Александра I. В подобных условиях понятие наука могло существовать в России главным образом как заграничная ученость. Петр I на представленном ему докладе «О нетрудном воспитании и обучении российских младых детей, чтобы оных в малое время в совершенство поставить», не задумываясь учинил резолюцию: «Сделать академию, а ныне приискать из русских, кто учён и к тому склонность имеет, также начать переводить книги юриспруденции и прочия»
О состоянии экономической науки в России в конце XVIII века
«Сделать академию» оказалось непросто. Ученых людей пришлось искать за границей, а возглавил ее лейб-медик царя Л. Блюментрост. В проекте положения Академии наук 1724 года было предусмотрено занятие экономической наукой: «Еще же притом экономия учена будет, то похвально и весьма полезно, ибо в общем жительстве учением ее великая прибыль и польза чинится»161. Академия не была строго научным учреждением, академикам приходилось преподавать в созданном одновременно Академическом университете и Академической гимназии, разрабатывать курсы по своим предметам. О востребованности гимназии говорит стойко убывающее количество учеников-элевов: в 1726 году – 112, в 1759 году – 40, в 1779 году – 29. В 1764 году гимназисты сожгли гимназию. Среди ее выпускников известных имен не было. Университету повезло больше. В нем учился М.В. Ломоносов. Занятия в университете проводились нерегулярно и часто надолго прерывались, факультетов и кафедр в университете не было, направление преподавания определялось специальностями читавших лекции академиков. Студенты занимались по программам, разработанным членами Академии наук, а наиболее одарённые – по индивидуальным планам. В период 1758–1765 годов Ломоносов был ректором университета и предпринял попытку придать программе обучения черты сходства с европейскими университетами, однако после смерти великого русского ученого-полимата, университет упразднили. Среди выпускников Академического университета – действительные члены Академии наук, профессоры и адъюнкты: В.Е. Адодуров, Г.В. Рихман, С.П. Крашенинников, С.Я. Румовский, А.А Барсов, С.К. Котельников, А.А. Константинов, П.Б. Иноходцев, В.Ф. Зуев. В представленном списке числятся главным образом математики, физики, астрономы, переводчики и путешественники-естествоиспытатели, нет в этом списке философов, экономистов, историков, и в этом нет ничего удивительного – в русском обществе в XVIII века еще не сложился запрос на изучение «самое себя». Тем удивительнее появление уже в петровское время такого самородка, как И.Т. Посошков, которого вполне обоснованно можно назвать первым русским экономистом и не только экономистом.
Об этом уникальном человеке, самоучке из крестьян162, гравере-ювелире, монетных дел мастере, самобытном мыслителе историки и экономисты продолжают спорить с той поры, как М.П. Погодин ввел в 1842 году в научный оборот капитальный труд Посошкова «Книгу о скудости и достатке». Книга была написана в самом начале 1720-х годов специально для Петра I, которого автор на последней странице заклинал не предавать написанное огласке, опасаясь мести «сильных лиц, нелюбящих правду». Его опасения оказались не напрасны. После смерти Петра I в августе 1725 года Посошкова арестовали и отправили в Петропавловскую крепость, где он через несколько месяцев скончался. Причины ареста неизвестны, но большинство историков сходятся в мнении, что А.Д. Меншиков, ставший при Екатерине I полновластным правителем России, книгу Посошкова читал и усмотрел в ней крамолу и поклеп на «царство петровское».
«Книга о скудости и богатстве» действительно содержит множество критических замечаний и наблюдений по поводу «неисправ» практически всех сфер русской жизни, но царь Петр, к которому книга попала вероятно в феврале 1824 года, то есть за год до смерти, никаких репрессалий к автору не применял. Некоторые исследователи предполагают, что у царя не дошли до нее руки, но это представляется маловероятным, поскольку сама тема книги не могла не заинтересовать царя-реформатора. Кроме того, Посошков не ограничился критикой, а сформулировал целую программу преобразований, которая, по оценкам некоторых историков, претендует на то, чтобы предложить и описать особую «русскую модель» государственного устройства и общественной организации.
Уже в самой компоновке глав книги проявляется система приоритетов автора. Во вступлении Посошков формулирует главную идею своего труда о том, что есть богатство. Он противопоставляет «гобзовитое (изобильное) богатство, богатству невещественному. Он пишет: «Понеже не то царственное богатство, еже в царской казне лежащие казны много, ниже то царственное богатство, аще синклит Царского Величества в златотканных одеждах ходит, но то самое царственное богатство, ежели бы весь народ, по местностям своим богат был самыми домовыми внутренними своими богатствами… Паче же вещественного богатства надлежит всем нам обще пешися о невещественном богатстве, т. е. об истинной правде, о правде – отец Бог, и правда вельми богатства и славу умножает, и от смерти избавляет…» Идея о том, что богато то царство, где богат и не угнетен народ, где царит правда и справедливость проходит через весь труд и в разных главах принимает разнообразные формы.
Первая глава книги посвящена духовенству, последняя «царскому интересу», то есть налогам, а между ними помещены главы об армии, судопроизводстве, купечестве, ремесленниках, разбойниках, крестьянах, дворянах и, наконец, о земле. Этот порядок не случаен. Посошков начинает с духовенства, потому что именно с него собирается начинать преобразования в стране, поскольку батюшка в сельской церкви ближе всех к деревенским обывателям. Он не только проповедует слово божье и требы исполняет, но примером собственной жизни и доброй беседой способствует нравственному воспитанию прихожан, обучает их детей грамоте и счету. Посошков, однако, не обольщается относительно истинного положения дела на селе. На Руси не прижилась церковная десятина и жизнь сельского священника ничем не отличалась от жизни крестьянской. Тяжелый труд пастыря наравне с прихожанами приводил к тому, что в сельских церквях месяцами службы не проводились. О каком воспитании и образовании можно было говорить, если многие сельские священники были безграмотны, служебного канона не знали и службу вели по наитию. По мнению Посошкова, для того, чтобы сельский священник стал просветителем русской деревни, для этого самого просветителя следовало образовать, одеть, накормить, сделать уважаемым в деревне человеком, чтобы он «не входил в алтарь в разношенных лаптях». Посошков предлагал освободить священника от работы в поле, дать ему постоянный доход в виде церковной десятины от доходов всей церковной общины, но главное – дать ему достойное «книжное образование» и перед посвящением в духовное звание подвергать строгому экзамену. Посошков полагал необходимым во всех епархиях открыть школы для детей лиц духовного звания, напечатать церковных книг, особенного «Камень веры» Стефана Яворского, и послать необходимое количество в каждую школу, чтобы «жаждущие пресвитерского звания» заучили наизусть и могли бы не только проповедовать в церкви, но и давать достойный ответ раскольникам. Особо отличившимся он полагал возможным давать читать и летописные книги, чтобы знали историю и могли доносить ее до паствы.
Во второй главе Посошков озадачился положением в армии, где он также отмечал множество неустройств, нерадение офицеров о простых солдатах, нищенское содержание, невеселый настрой нижних чинов. По его мнению, армию также следовало накормить, одеть, обуть, вооружить, навести порядок, положить конец самодурству офицеров, а для этого устроить суд, в который солдат мог бы жаловаться на притеснения со стороны офицеров. Следует обратить внимание на то, что Посошков предложил ввести институт бессословного суда и утвердить принцип равенства всех перед законом: «суд устроити един, каков земледельцу, таков и купецкому человеку, убогому и богатому, таков и солдату, таков и афицеру, ничим отменен, и полковнику и генералу, и чтоб и суд учинить близостной, чтобы всякому и нискочинному человеку легко было ево доступить». Рассуждения Посошкова о суде и следствии вообще заслуживают отдельного, тщательного рассмотрения, но это тема уже другого исследования. Тогда, по мнению Посошкова, солдат будет доволен службой и можно будет от него требовать «знания артикула военного», умения метко стрелять, содержать «фузею в чистоте и справности». Особое значение Посошков придавал умению солдат метко стрелять, в том числе по движущейся цели, за что предлагал платить повышенное жалование: «Рядовому солдату в год жалования 16 рублев, а тем, которые будут из фузеи с руки в 20 саженях по шапке бить без погрешения, то таковым, видится, мочно дать и по 20 рублев на год, дабы, на то смотря, и иные острились на такое умение. А буди же таковой по подвижной цели будет убивать без прегрешения, мочно и по 25 рублев в год дать». В умении большинства солдат в строю метко стрелять он видел залог победы на поле боя, возможность обратить неприятеля в бегство. При этом он предлагал отказаться от залповой стрельбы, стрелять поочередно, чтобы не дать неприятелю возможности использовать время, необходимое для перезаряжания ружей, для штыковой атаки.
Третью главу Посошков посвятил судопроизводству, указав в самом начале на множество нарушений и злоупотреблений, царящих в судебной системе, на беспричинные задержания, на содержание в заключении без суда и законного приговора, на самоуправство судейских, на взятки, на несправедливые решения. По его мнению, если «праведный и нелицеприятный суд у нас установится, то все будут бояться неправды, … тогда и собрания царския казны будет сугубо».
Одно из основных средств исправления системы он увидел в создании нового судебника, который вобрал бы в себя все лучшее, что было создано не только в России, но и за рубежом и даже в Турции, где «слышно … бо о них, яко всякому правлению расположено у них ясно и праведно, паче немецкого правления». Создавать новый судебник Посошков предложил поручить специальной комиссии, в которую вошли бы по два-три заслуженных представителя от каждого сословия, в том числе от крестьян, «кии в старостах и соцких бывали», аргументируя это своеобразно: «Я видел, что и в мордве разумные люди есть, то како во крестьянах не быть людям разумным?»
Судя по всему, Посошков был знаком не только с турецким законодательством, но что-то доходило до него из просвещенной Европы, ибо он далее предложил: «И написав тыя новосочиненныя пункты, всем народом освидетельствовати самым вольным голосом, а не под принуждением, дабы в том изложении как высокородным, так и нискородным, и как богатым, так и убогим, и как высокочинцам, так и нискочинцам, и самым земледельцам обиды бы и утеснения от недознания коегождо их бытия в том новоисправном изложении не было». А потом новый судебник предполагалось представить на утверждение «императорскому величию». Удивительно, но Посошков отдавал себе отчет в том, что покусился на прерогативы самодержавия и посчитал необходимым далее оправдать свою попытку: «Аз же не снижая его величества самодержавия <народосоветием>, но ради самыя истинныя правды, дабы всякий человек осмотрел в своей бытности, нет ли кому в тыих новоизложенных статьях каковыя непотребные противности, иже правости противна». Нельзя исключать, что эта глава могла стать поводом для ареста Посошкова после смерти царя-реформатора.
Четвертую главу многие историки называют гимном купечеству, однако при внимательном прочтении «Книги…» складывается впечатление, что Посошков не выделял торговлю в качестве ключевого элемента экономического механизма России. В равной мере он отдавал должное земледелию и промыслам, но будучи купцом, не мог пройти мимо проблем купечества. Посошков писал: «… купечество в ничтожность повергать не надобно, понеже без купечества никаковое, не токмо великое, но и малое царство стоять не может. … И того ради и о них попечение неоскудное надлежит иметь. … Не можно воинству без купечества, ни купечеству без воинства. … Нет на свете такова чина, коему бы купецкой человек не потребен был». Но не мог он не замечать «неисправ» и в купечестве. «Нам надобно не парчами себя украшати, но надлежит добрым нравом и школным учением и христианскою правдою и между себя истинною любовию и неколеблемым постоянством яко в благочестивой христианской вере, тако и во всяких делах… хорошо бы в купечестве и то учинить, чтобы все друг другу помогали и до нищеты никого не допускали … и оставили те не праведные древние купецких людей обычаи» – обманы друг друга и покупателя, подсовывание некачественного товара, обвесы, обмеры, выдача своих товаров за иноземные и прочее. И тогда «благодать бы божия воссияла на купечестве и божие благословение почило бы на них и торг бы их святой был». К достижению этой цели Посошков не видит препятствий, утверждая, что если бы на рынке присутствовали выборные «сотские и пятидесятские» и на их лавках была бы всем видна соответствующая табличка, то покупатели могли бы к ним обращаться, если заподозрят обман в торге. За обмер, обвес и назначение неправильной цены он предлагал установить систему штрафов и «наказание батогами сугубое» … или плетьми.
В отношении торговли иностранных купцов в России Посошков занимал исключительно жесткую, протекционистскую позицию. «И сколько ни есть заморских товаров, на все наложили они цену двойную да тройную, и тем они хочут Российское царство пригнать ко оскудению». Он настаивал на том, что монарх волен устанавливать цены на заморские товары, и заморские купцы не вправе торговать на иных условиях. В противном случае Посошков предлагал лишать их портовых складов и права торговли. «И если они, иноземцы, от упрямства своего годы два-три или пять-шесть торговаться с нами не будут, то купечеству нашему великая и неисчислимая прибыль будет, потому которые товары покупались у нас в Руси по рублю, то будут уже в покупке по полтине и не меньше. А иноземцам меньше уставленные цены за иноземческое упорство сбавить отнюдь не можно, потому что такая цена уставилась за их непокорство».
Посошков призывал отказаться от приобретения иностранных вин и деликатесов и завозить только то, что в России не производится: «Заморские питья отставить, а повелеть строить меды разных видов, разными и вкусными и продавать их из австерий, то так в их настроят, чтобы больше заморских питей их будет». Он полагал, что русским купцам следует полностью отказаться от экспорта сырья и вывозить только готовые изделия. «А кои у нас в Руси обретаются вещи, яко же соль, железо, иглы, стеклянна посуда, зеркалы, очки, оконешные стекла, шляпы, скипидар, робячьи игрушки, вохра, черлень, празелень, пулмет, то всем тем надобно управлятися нам своим, а у иноземцов отнюдь бы никаковых тех вещей и на полцены не покупать… но покупали б такие вещи, кои прочны и коих в Руси у нас не обретается или без коих пробыть не мочно». Но и эти товары он считал необходимым заменить на отечественные, для чего государству следует строить мануфактуры и передавать деловым людям. «А еще своими деньгами не могут его оправить, то из царские бы сборные казны из ратуши давали им и с проценту на промыслы, смотря по промыслу ево, дабы ни кокой промышленной человек во убожество великое от какова своего упадку не входил».
Более того, он предлагал вообще отказаться от услуг иностранного купечества, создавать отечественные купеческие компанства, на своих кораблях возить русские товары за границу, продавать их по справедливой цене и закупать иностранные товары из первых рук, чтобы не переплачивать. Посошков предлагал запретить иностранным купцам торговать в России, если на вырученные средства они не будут покупать русские товары. Тогда, по его мнению, прекратится главное зло – вывоз серебра и золота из России. Причем цену русские купцы должны были устанавливать сами и снижать ее не допускалось. Посошков предлагал поставить иностранцев в ситуацию цейтнота и запретить предоставлять склады несговорчивым иноземным торговцам: «или покупай быстро по нашим фиксированным ценам, или увози свой пармезан назад»163. Он был абсолютно уверен, что иностранцы не проживут без русских товаров и в конце концов «гордость свою отложат – нужда пригоняет и к поганой луже». И «поганая лужа» с каждым годом должна становиться все поганее. Ведь после вероятного бойкота цену на русские товары, идущие за границу, следовало увеличить на рубль, через год – на два и т. д.
Следующая глава его сочинения называется: «О художестве», т. е. о ремеслах, об организации промыслов, иначе говоря, об обрабатывающей промышленности. В этой главе Посошков сетует на отсутствие в России цеховой регламентации ремесленного труда, порядка обучения учеников и подмастерьев, подтверждения степени достигнутого мастерства, качества производимых товаров, а также ограничения количества производимых товаров. Для России того времени цеховая система была еще вполне актуальна, но в Англии она уже начинала тормозить развитие массового производства. «В художниках, – говорит он, – аще не будет доброго надзирателя и надлежащего им управления, то им ни коими делы обогатитися невозможно, ниже славы себе доброй получити, но до скончания века будут жить в скудости и бесславии. А если бы учинен был о них гражданский указ, еже им бы и с самого начала учиться постоянно жить, давшись к мастеру в научение, жить до уреченного сроку, а не дожив не то, что года, но и недели «с дожив, прочь не отходить, и не взяв отпускного письма и после сроку со двора не сходить то бы все мастеры не в том бездельном порядке были, но совершенно добрыми мастерами были бы. А прежде такой порядок в них был, что отдавшись на учение лет на 5 или на б, и год места или другой пожив, да мало-мало понаучась, и прочь отойдет, да и станет делать собою, да и цену спустит и мастера своего оголодит, а себя не накормит, да так и век свой изволочит – ни он мастер, ни он работник».
Посошков был весьма озабочен освоением западных технологий. Иностранцев, указывает он, следует привечать, но глаз с них не спускать. И нужны они в первую очередь для организации производства и обучения местных мастеров. «Надлежит достать, – пишет Посошков, – и таких мастеров, кои могут делать волоченое железо, и жесть, и кровельные доски железные. И если это и трудно будет, то все равно надо их добыть и отослать их на сибирские заводы, чтобы тому мастерству и наших русских людей научили». Точно так же следует осваивать технологии обработки льна, чтобы продавать за границу не сырье – лен и коноплю (пеньку), а готовую продукцию – ткань и канаты. В общем, ни копейки за границу, все делать у себя, продавать товары, а не сырье.
Шестая глава о разбойниках свидетельствует о том, насколько плохо обстояли дела с общественной безопасностью в петровской России и дает представление о взглядах наиболее просвещенных людей того времени, к числу которых, несомненно, принадлежал Посошков, на способы борьбы с разбоями и грабежами. «Во всех государствах христианских и басурманских разбоев нет таких, каковы у нас в Руси, а все от того, что там потачки им не малыя нет: в тюрьмах долго не держат; когда кого поймают, тогда ему указ учинят; и того ради там не смеют и воровать много. А у нас, поймав вора или разбойника, не могут с ним расстаться: посадят в тюрьму да кормят его, будто доброго человека, и держат в тюрьме лет 10 и 20…» Посошков выступал за самые строгие меры вплоть до смертной казни за разбой и убийства, не откладывая дело до нескорого суда, а отдав его на усмотрение местного самоуправления и местных дружин самообороны. «А буде разбойников приедет много и им своею деревнею не удержать их, то тем соседям добежать в околние деревни и повестить, чтобы шли все поголовно мужики сърослые с ружьем и с крючьем и з дубьем на поимку тех разбойников».
В следующей главе о крестьянах Посошков обращает внимание государя на причины бедственного положения русского крестьянства. Он допускает, что среди крестьян существуют неисправные, что по условиям климата крестьянский труд малопроизводителен, но главную причину усматривает в отношении помещиков к своим крепостным: «…ибо есть такие бесчеловечные дворяне, что в работную пору не дают крестьянам своим единого дня, еже бы ему на себя что сработать. И за таким их порядком крестьянин никогда у такого помещика обогатиться нe может, и многие дворяне говорят крестьянину де не давай обрасти, но остриги его, яко овцу, догола. И тако говоря, царство пустошат: понеже так их обирают, что у иного и козы не оставляют». Мысль о том, что от благосостояния крестьянства зависит благосостояние государства Посошков повторяет не раз. Он не отрицает само существование крепостного права несмотря на его относительно недавнее установление, но полагает, что государь должен регулировать отношения между помещиками и их крепостными: «Крестьянам помещики не вековые владельцы; того ради они не весьма их и берегут, а прямый их Владетель – Всероссийский Самодержец, а они владеют временно». «По моему мнению, – повторяет он в другом месте, – царю паче помещиков надлежит крестьянство беречи; понеже помещики владеют ими временно, а царю они вековые, и крестьянское богатство – царственное, а нищета крестьянская – оскудение царственное. И того ради царю, яко великородных и военных, тако и купечество и крестьянство блюсти, дабы никто в убожество не входил, но все бы по своей мерности изобильны были».
В этой же главе Посошков повторяет мысль о необходимости учить грамоте и счету представителей всех сословий, не исключая крестьянство, ибо от того «пользы бывают». Распространение грамотности среди крестьян, по мысли Посошкова, сыграет важную роль в деле ограничения самовластия, своеволия, вымогательства царских слуг. Их произвол причиняет крестьянству большие убытки. Посошков выступал даже за принудительное обучение крестьянских детей грамоте. «А егде грамоте и писать научатца, то они удобнее будут не токмо помещикам своим дела править, но и к государственным делам угодны будут».
В главе «О дворянах, крестьянах и земельных делах» Посошков в известной мере повторяет сказанное в предыдущей главе и предлагает государю вразумить помещиков, заставить их рационально относиться к земледелию как основному источнику государственного богатства.
Говоря в последней главе о царском интересе, Посошков на основании своего собственного опыта купца, откупщика, мануфактуриста и помещика формулирует практические рекомендации относительно податной системы, главным принципом которой он полагает: «В собрании царского сокровища надлежит прямо и здраво собирати, чтобы никакие обиды ни на кого не навести, казна бы царская собирати, но никого не разоряти». «Собранное» Посошков рекомендует тщательно хранить и не допускать воровства и расточительства. Особое внимание Посошков уделил сохранению дубовых лесов, которые дают основные материалы для кораблестроения и которые подвергаются массовой вырубке, несут огромные потери при сплаве, а также предлагал канаты и такелажные принадлежности принимать в казну исключительно в несмоленом виде, чтобы было невозможно скрыть их дурное качество. Не обошел он внимание и «посошные работы», на которые в Петербург присылали сменами на три месяца строителей и чернорабочих. Посошков полагал целесообразным не держать крепостных по три месяца, а определять им объем работ и отпускать раньше срока с сохранением положенного оклада, если работа выполнена быстро и качественно.



