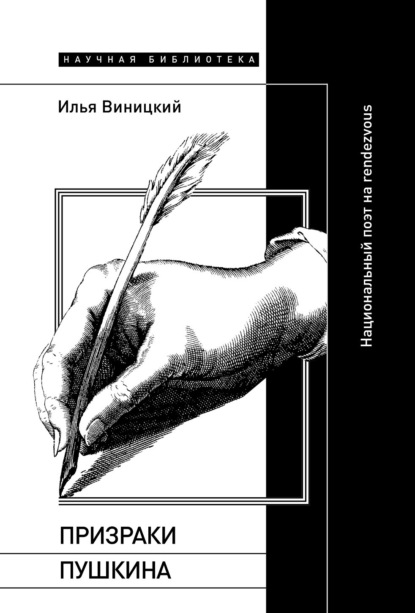
Полная версия:
Призраки Пушкина. Национальный поэт на rendezvous
11
Например, в середине позапрошлого века известный немецкий спирит Л. фон Гильденштуббе клал чистые листы бумаги и карандаш «под могильные памятники, на гробницы, мавзолеи» и просто в темные места и «таким образом получал, по его уверению, начертания потусторонних деятелей собственными автографами» (Быков В. Спиритизм перед судом науки, общества и религии. М., 1914. С. 107).
12
О методах атрибуции медиумических текстов, «пародирующих» текстологическую науку того времени, см., в частности: Аксаков А. Н. Анимизм и спиритизм. СПб., 1901. С. 351–354. Теоретики спиритизма признавали возможность ложных сообщений, литературного самозванства и просто розыгрыша со стороны духов. «Опытный спиритуалист, – читаем в одном из первых русских спиритических романов, – способный анализировать добываемые им факты, никак не будет искать в сообщениях духов непогрешимые истины для своих религиозных или каких бы то ни было воззрений, а отнесется к ним так же критически, как и ко всему, имеющему не абсолютное происхождение» (Прибытков В. И. Легенда старого баронского замка. Не быль и не сказка. СПб., 1883. С. 44). Тем не менее практика спиритизма показывает, что полученные тексты чаще всего воспринимались как носители абсолютных истин.
13
Цит. по: Лесевич В. Модное суеверие («Что такое спиритизм и его явления?») А. Сумарокова. СПб., 1871 // Отечественные записки. 1871. № 12. С. 194; курсив мой. – И. В.
14
Страхов Н. Н. Три письма о спиритизме. Гражданин 1876. № 41–44. Ср. удачное (по своей, кажется, непроизвольной двусмысленности) определение спиритизма как материализованного спиритуализма в: Волгин И. Л., Рабинович В. Л. Достоевский и Менделеев: антиспиритический диалог // Вопросы философии. 1971. № 11. С. 113.
15
В манифесте американских спиритов, принятом на филадельфийском конгрессе 1865 года, говорилось, что духи после смерти не удаляются «с поприща своей деятельности» (Лесевич В. Модное суеверие. С. 194).
16
Разумеется, и деисты, и убежденные атеисты, и просто скептики, вызванные спиритами, раскаивались в своих прежних взглядах и подтверждали правоту верований спиритов. Ответами таких раскаявшихся авторов (например, Вольтера, якобы подписавшего собственною рукою свое отречение от прежних антиклерикальных взглядов) в спиритистских кругах особенно дорожили.
17
Doten L. Poems from the Inner Life. Boston, 1868. P. 104–105.
18
С. А. Живые речи отживших людей. СПб., 1905. C. 131.
19
Одуар О. Спиритизм / Пер. с франц. СПб., 1875. С. 131–134.
20
Драматургическую природу сеансов хорошо почувствовал Лев Толстой, спародировавший собрание спиритов в пьесе «Плоды просвещения» (1886–1890).
21
Тынянов Ю. Н. Мнимый Пушкин // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 537–538. Показателен в этой связи интерес Тынянова к «пародической личности» Козьмы Пруткова – самого знаменитого русского литературного фантома.
22
Там же.
23
На это постоянно указывали противники спиритизма. Ср.: «…духи являются католиками в Риме, англиканами в Лондоне и Нью-Йорке, свободными мыслителями в Париже, схизматиками в Петербурге. <…> То же разноречие, когда их спрашивают их мнение по социальным вопросам» (цит. по: Аксаков А. Н. Позитивизм в области спиритизма. По поводу книги А. Дассьэ «О посмертном человечестве». СПб., 1884. С. 59).
24
Sword H. Ghostwriting Modernism. P. 12–13.
25
Менделеев Д. И. Материалы для суждения о спиритизме. СПб., 1876. С. 326.
26
Контраргументом были ссылки на случаи, когда способности и культурный горизонт медиумов не соответствовали уровню и особенностям полученных ими произведений. Наиболее популярный в спиритистских кругах пример – история о том, как в начале 1870‑х годов «дух» Диккенса продиктовал одному малообразованному, но талантливому американскому механику-медиуму завершение незаконченного романа «Тайна Эдвина Друда». Этот случай медиумического «сообщения», содержание которого «выше умственного уровня» медиума, привлек к себе внимание крупнейшего теоретика спиритизма А. Н. Аксакова (Аксаков А. Н. Анимизм и спиритизм. M., 1901. С. 351 и далее). Последний упоминает в своем капитальном труде о спиритизме и вышедшую в Лондоне в 1885 году книгу Essays from the Unseen, включающую сообщения, полученные медиумическим путем от разных исторических лиц, философов, поэтов и богословов (глава «Сообщения, коих содержание выше умственного уровня медиума»).
27
Такая иллюзия особенно заметна в случаях ориентации поэтических систем на воссоздание личного авторского голоса и «поэтическую болтовню», адресованную воображаемому читателю (ср. постоянные обращения к читателю в произведениях Байрона и Пушкина).
28
Greenblatt S. Hamlet in Purgatory. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002. P. 251.
29
New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics / Ed. by A. Preminger and T. V. F. Brogan. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993. P. 994.
30
Сочинения Козьмы Пруткова. М., 1976. С. 321.
31
Загробные произведения от русских классиков получали и западные спириты. В 1936 году английский медиум Ида Кибл опубликовала продиктованные ей И. С. Тургеневым коммуникации со знаменитыми русскими покойниками – от композитора Бородина до Ленина, Николая II, барона Врангеля и Коллонтай; последняя тогда была еще жива, но, если верить медиуму, умерла и на том свете стала мужчиной! (Keeble I. M. E. Beyond Earth’s Fears. Ipswich, England: W. E. Harrison, 1936)
32
Ср. описание поэтической продукции этого духа в книге А. Н. Аксакова «Материалы для суждения об автоматическом письме (из личного опыта)» (СПб., 1899).
33
Вагнер Н. П. Наблюдения над спиритизмом. СПб., 1902. С. 104.
34
Лотман Ю. М. К проблеме работы с недостоверными источниками // Лотман Ю. М. Пушкин. Биография писателя – Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. C. 325.
35
О родственном пушкинскому феномене «призрака Шекспира» в английской культуре см., в частности: Sword H. Ghostwriting Modernism. P. 49–57, 159.
36
Ребус. 1899. № 22. С. 909.
37
Ребус. 1883. № 40. С. 1.
38
Анненков П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, 1799–1826 гг. СПб., 1874. С. VI. «Воззрения» о двойственной природе Пушкина вошли в национальный миф о поэте: так, в канун 200-летия Пушкина губернатор Аяцков предложил канонизировать поэта, а литератор Мадорский указал на «сатанинские зигзаги» последнего.
39
Стрекоза. № 23. 1880. С. 6. Показательно, что вскоре в печати появилась уже «серьезная» (то есть претендующая на аутентичность) эпиграмма Пушкина «на Булгарина», полученная спиритическим путем: «Когда Булгарина Фаддея / Узнал я вдоль и поперек…». Стихотворение представляет собой «желчный ответ» Пушкина на запрос участников домашнего кружка генерал-лейтенанта В. И. Фелькнера: «Сообщи о разладе с Булгариным». Оно было опубликовано братом генерала, К. И. Фелькнером, в заметке «Голоса из‑за гроба» со следующим пояснением: «…так как все учение о спиритизме зиждится лишь на безусловной вере его адептов, то не подлежит сомнению, что те из них, в присутствии которых были написаны медиумами-писателями ответы Крылова и Пушкина, ни на минуту не усомнились в их достоверности. Для не спиритов же вопрос представляется совершенно в ином виде, хотя назвать авторов quasi-ответов едва ли кто сможет» (Фелькнер К. Голоса из‑за гроба // Колосья. 1889. № 11 (Смесь). С. 298–299). Стихотворение могло быть «получено» до 1859 года (смерть Ф. В. Булгарина).
40
Издатели загробного письма Пушкина сообщали, что получили последнее посредством спиритической почты: «Вид письма слегка помятый. На конверте сургучная печать „А. С.“ с гербом, почтовый штемпель, изображающий Харона в лодке, перевязанные почтовые тюки, и собственноручная пометка спиритического почтдиректора, г. Аксакова, „письмо запоздало вследствие разлива реки Ахерона и причиненной им порчи железнодорожных насыпей в стране духов“. Сюжет письма следующий. Получив книжную посылку от приятеля, пребывающего на земной планете, Пушкин вместе с Державиным, Грибоедовым, Гоголем и Крыловым штудируют вышедшие I и VI тома исаковского собрания сочинений Пушкина и ругают издание и его редактора Ефремова. В заключении Пушкин смиренно просит издателя, „…вместо того, чтобы вставлять в мои стихи ефремовские вирши, вставляйте лучше мои стихи в «Полное собрание сочинений» господина Ефремова“. Следует факсимильное изображение собственноручной подписи покойного поэта» (Стрекоза. 1880. № 23. С. 1).
41
Добавим, что само открытие памятника Пушкину было осмыслено в общественном сознании эпохи как материальное свидетельство поэтического бессмертия певца Алеко и Татьяны: «Стоит на граните высоко, безмолвный, / С главою поникшей и шляпой в руке, / Как чудный, неведомый призрак загробный, / С бессмертною лирой в лавровом венке» (А. Иваницкий; курсив мой. – И. В. Русские поэты о Пушкине: Сб. стихотворений / Сост. В. Каллаш. М., 1899. С. 196).
42
Вагнер Н. П. Наблюдения над спиритизмом. С. 101–104. Об авторстве стихотворения см. комментарии И. А. Пильщикова и М. И. Шапира в: Пушкин А. С. Тень Баркова: Тексты; Комментарии; Экскурсы. М.: Языки славянской культуры, 2002. Тень похабника Баркова из этого послания свидетельствует о том, что «гениальный Росс» пребывает в аду, а тень благочестивого Иоанна Дамаскина немедленно опровергает певца Белинды, называя его клеветником нашего славного поэта.
43
Русский инвалид. 11 января 1859. С. 31.
44
Библиографические записки. № 2. 1859. С. 64.
45
Берков П. Н., Лавров В. М. Библиография произведений Пушкина и литературы о нем. 1866–1899 / Под ред. Б. В. Томашевского. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 204.
46
Берг Н. В. И. Даль и П. В. Нащокин // Русская старина. 1880. № 7. С. 615–616.
47
Павлищев Л. Н. Из семейной хроники. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890. С. 75.
48
Каратыгин П. А. Вечер у генерала А. А. Катенина // Русская старина. 1880. № 11. С. 753–757.
49
Набоков Вл. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. М.: Правда, 1990. С. 93.
50
Ланн Е. Литературная мистификация. М., 1930. С. 56.
51
В «Библиографии произведений Пушкина и литературы о нем. 1886–1899» П. Н. Беркова и В. М. Лаврова ссылки на этот текст даются в специальном разделе «Мнимый Пушкин», включающем многочисленные подделки стихов поэта и ошибочные атрибуции ему чужих стихотворений.
52
Ср. из писем к Я. К. Гроту 1840‑х годов о Пушкине: «У него тогда было какое-то высокорелигиозное настроение. Он говорил со мною о судьбах Промысла, выше всего в человеке ставил качество благоволения ко всем, видел это качество во мне…»; «Любимый со мною разговор его, за несколько недель до его смерти, все обращен был на слова: „Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человецех благоволение“» (Плетнев П. А. Из переписки с Я. К. Гротом // Пушкин в воспоминаниях современников. 3‑е изд., доп. СПб.: Академический проект, 1998. С. 291–292).
53
Ср. финал «загробного» стихотворения Пушкина: «И у престола Высшей силы / За вас, друзья мои, молю».
54
Здесь и далее цитаты по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.] (М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949), с указанием номеров тома и страниц.
55
Ср. реакцию отца Марии Волконской Н. Н. Раевского, пославшего эти стихи дочери в Сибирь: «…посылаю тебе подпись надгробную сыну твоему, сделанную Пушкиным; он подобного ничего не сделал в свой век». Стихи Пушкина были вырезаны на надгробии ребенка (см. подробнее: Удимова Н. И. Стихотворение Пушкина памяти сына С. Г. Волконского // Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. М., 1956. С. 405–410).
56
Впервые эта эпитафия была опубликована в седьмом томе анненковского собрания сочинений Пушкина (1855), то есть после появления стихотворения «Входя в небесные селенья…» (согласно легенде, проверить которую пока не представляется возможным). Но это не меняет сути дела, так как к 1859 году (публикация в «Русском инвалиде») совпадение мотивов «посмертных» стихов Пушкина с мотивами «Эпитафии младенцу» могло казаться «спиритствующим» почитателям поэта аргументом в пользу аутентичности сообщения его тени. Вообще, с точки зрения интересующего нас мифа не столь уж важно, кто написал это стихотворение на самом деле; гораздо важнее определить, почему это стихотворение могло восприниматься как пушкинское.
57
Н. И. Удимова, отмечая политический подтекст стихотворения (мольба за осужденного царем декабриста С. Волконского), подчеркивает, что свои чувства автор облекает в «традиционные фразеологические формы христианских эпитафий» (с. 406).
58
Подробнее см.: Томашевский Б. В. Пушкин. Т. 2. М., 1961. С. 496–497; ср. также рассуждения Гершензона о принципиальной двойственности пушкинского ответа на вопрос о загробном бытии: Гершензон М. Статьи о Пушкине. Л., 1926. С. 71–76.
59
Заметим, что настоящий фрагмент был, что называется, на слуху у публики. Его цитирует Я. И. Грот в речи на торжествах 1880 года, сопровождая следующим симптоматичным для нашей темы комментарием: «Такое настроение сопровождалось в душе Пушкина наклонностью к суеверию» (Венок на памятник Пушкину. С. 240–241).
60
В творчестве Пушкина, как известно, тема являющейся тени гения-поэта представлена очень широко (тени Назона, Гомера, Данте, Шенье, Байрона; в пародийном варианте – Баркова, Фонвизина).
61
Был известен и пародийный вариант разработки этой темы, когда современникам являлась тень великого комического писателя, «чтобы утвердить дух истинной поэзии», – например, тень Мольера в одноименной французской сатире (см.: Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб.: Наука, 1997. С. 120).
62
Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 133.
63
Ср. посмертную «дельвигиану», включающую не только стихотворные и прозаические обращения к «тени поэта», но и рассказ о «действительном» явлении его тени близким. О пушкинском варианте мифа о тени Дельвига писал Б. М. Гаспаров: «Смерть Дельвига – превращение его в „тень“ – добавила к его облику последний компонент, позволивший воплотить взаимоотношения двух друзей в многозначительном образе мистической „встречи“» (Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина. С. 225).
64
Интересно, что впервые Пушкин был уподоблен тени еще в самом начале поэтического поприща: «Он мучает меня, как привидение», – писал тогда В. А. Жуковский (Русский архив. 1896. № 10. С. 208).
65
С. Сэндлер затрагивает этот вопрос в главе The Making of Museum Culture своей книги Commemorating Pushkin.
66
Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855. С. 132.
67
Речь идет о многочисленных портретных и скульптурных изображениях Пушкина 1850–1870‑х годов, проектах памятника поэту, печатавшихся и обсуждавшихся в журналах и газетах (ср., например, показательные названия публикаций: «Фотографический портрет Пушкина», «Теневой портрет Пушкина (для вырезывания и отражения на стене)», «Открытие памятника Пушкину. Момент снятия покрова»).
68
Московская изобразительная пушкиниана. М.: Изобразительное искусство, 1991. С. 32.
69
Либрович С. Ф. Пушкин в портретах: История изображений поэта в живописи, гравюре и скульптуре. СПб., 1890. С. 88.
70
Цит. по: Русские поэты о Пушкине: Сб. стихотворений / Сост. В. Каллаш. М., 1899. С. 126.
71
Русский вестник. 1880. Т. 147, ч. 2. С. 935. Ср. семиотическое сопоставление «тени» и «памятника» в поэтическом мифе Пушкина: Senderovich S. On Pushkin’s Mythology. P. 107–112.
72
Русский вестник. 1880. Т. 147, ч. 2. С. 161. Ср. семиотическое сопоставление «тени» и «памятника» в поэтическом мифе Пушкина: Senderovich S. On Pushkin’s Mythology. P. 107–112.
73
Jakobson R. Puškin and His Sculptural Myth. The Hague: Mouton, 1975.
74
Русские поэты о Пушкине: Сб. стихотворений / Сост. В. Каллаш. С. 329–330. Ср. канонизацию этого сюжета в «Юбилейном» Маяковского (1930).
75
Берков П. Н. Из материалов пушкинского юбилея 1899 г. // Пушкин: Временник пушкинской комиссии. Т. 3. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937.
76
Заметим, что в это же время была высказана мысль о соединении фонограмм с записями стихов поэта с кинематографом. Если бы эта идея была реализована, «Пушкин» бы, к радостному удивлению многих, заговорил. О ранней кинопушкиниане см.: Барыкин Е. М., Семерчук В. Ф., Сковородникова С. В., Дерябин А. С. Пушкинский кинословарь. М.: Госфильмофонд России, 1999.
77
Знаменательно примечание Суворина, процитировавшего этот фрагмент в своей книге о подделке «Русалки»: «заседания Русского Литературного Общества были негласными и члены его обязывались не печатать ничего о заседаниях. Г. Знакомый нарушил это правило». Здесь актуализируется мотив нарушения тайны – в прямом соответствии с готическим характером всей истории.
78
Из многочисленных работ, посвященных пушкинскому мифу на разных стадиях его развития, выделим исследования американских ученых: Levitt M. Russian Literary Politics and the Pushkin Celebration of 1880 (1989); Horowitz B. The Myth of A. S. Pushkin in Russia’s Silver Age: M. O. Gershenzon, Pushkinist (1996); Debreczeni P. Social Functions of Literature: Alexander Pushkin and Russian Culture (1997); Paperno I. Nietzscheanism and the Return of Pushkin in Twentieth-century Russian Culture (1899–1937); Brooks J. Greetings, Pushkin!: Stalinist Cultural Politics and the Russian National Bard (2016).
79
Лазарев В. Я., Туганова О. Э. Трансформация образа Пушкина в тайниках современного массового сознания // Пушкин и современная культура. М.: Наука, 1996.
80
Рассказ Саши Черного «Пушкин в Париже» в свое время привлек внимание Юрия Левинга, увидевшего в нем «отчетливый источник происхождения» «эпизода с фантомным возвращением» Пушкина из набоковского «Дара» (Левинг Ю. Владимир Набоков и Саша Черный // Литературное обозрение. 2001. № 1 (277). С. 53).
81
Алданов М. Очерки. М.: Новости, 1995. С. 30–37.
82
Денисенко С. В. Посмертная маска Пушкина: (Заметки по материалам русской эмигрантской печати 1937 года) // Пушкин и другие. Н. Новгород, 1997. С. 148.
83
К Пушкину обращались, разумеется, и противники большевиков, о чем свидетельствуют иронические строки из популярной песенки о «цыпленке жареном»: «А на бульваре / Гуляют баре, / Глядят на Пушкина в очки: / – Скажи нам, Саша, / Ты – гордость наша, / Когда ж уйдут большевики? / – А вы не мекайте, / Не кукарекайте, – / Пропел им Пушкин тут стишки, – / Когда верблюд и рак / Станцуют краковяк, / Тогда уйдут большевики» (цит. по: Неклюдов С. Ю. «Цыпленок жареный, цыпленок пареный…» // https://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov19.htm). Исследователь современного фольклора С. Б. Адоньева указывает на особую функцию Пушкина в массовой культуре: поэт выступает в роли оракула, к которому постоянно обращаются с вопросами о будущем (гадания по его сочинениям, вызов его души на спиритических сеансах): Адоньева С. Б. Категория ненастоящего времени: Антропологические очерки. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. С. 66–69. О вызове Пушкина на крестьянских спиритических сеансах в начале 1930‑х годов см.: Панченко А. А. Спиритизм и русская литература: из истории социальной терапии // Труды Отделения историко-филологических наук РАН. М.: РАН, 2005. С. 540–541.
84
Антокольский П. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1971. С. 540.
85
Новый мир. № 1. 1937. На эти строки указал мне когда-то Наум Коржавин, процитировав их по памяти.
86
Литературная газета. 1999. 2 июня. С. 22.
87
Там же.
88
Хомяков В. Интервью на главную тему: Пушкин, Гоголь и Достоевский поддержали спецоперацию // Царьград. 2022. 20 июля. https://tsargrad.tv/articles/intervju-na-glavnuju-temu-pushkin-gogol-i-dostoevskij-podderzhali-specoperaciju_588154.
89
Гаспаров Б. Поэтический язык Пушкина. С. 17.
90
Впервые напечатано в: Временник Пушкинской комиссии: Сборник научных трудов. Вып. 33 / Отв. ред. А. Ю. Балакин. СПб.: Росток, 2019. С. 161–172.
91
Гинзбург Л. Человек за письменным столом. М.: Сов. писатель, 1989. С. 17.
92
Белинский В. Г. <Россия до Петра Великого> // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М.: Худож. лит., 1976–1982. Т. 4. С. 540.
93
Вацуро В. Э. «Великий меланхолик» в «Путешествии из Москвы в Петербург» // Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л.: Наука, 1977. С. 43–63.
94
В этой связи «вековой» спор пушкинистов о «великом меланхолике» представляется нам глубоко симптоматичным. В принципе, на эту роль можно было бы предложить не только уже известных нам кандидатов, но и едва ли не всех авторов пушкинского круга. Меланхоликами называли себя и считались П. А. Плетнев, М. П. Погодин, В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, кн. В. Ф. Одоевский (первое «Петербургское письмо» Одоевского, написанное в 1835 году, начиналось с шуточного сравнения «мачехи» Москвы с Петербургом и содержало ироническое замечание по поводу меланхолических расставаний с родным городом). Разумеется, можно легко найти историко-литературные и текстологические аргументы, «отводящие» названные кандидатуры, но проблема все равно остается: едва ли не все сотрудники пушкинского журнала имели репутацию меланхоликов, причем многие из этих меланхоликов знали, по собственному (или современников) признанию, «светлые минуты веселости». Самое простое – и самое абстрактное – объяснение этому парадоксу заключается в том, что в период от Эдуарда Юнга до Бенжамена Констана меланхолия считалась главной культурно-психологической характеристикой писателя или художника. При этом меланхоликом можно было быть по-разному. За каждым «оттенком» общемеланхолического мироощущения стояла определенная литературная традиция (юнговская, оссиановская, греевская, байроновская и т. д.). См. нашу классификацию меланхолии и меланхоликов: Виницкий И. Ю. Русская «меланхолическая школа» конца XVIII – начала XIX в. и В. А. Жуковский: Дис. … канд. филол. наук. М., 1995; Vinitsky I. «The Queen of Lofty Thoughts»: The Cult of Melancholy in Russian Sentimentalism // Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe / Ed. by M. Steinberg and V. Sobol. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2011. P. 18–43; Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism and the Emotional History of Russia. Evanston, 2015. P. 8–11.



