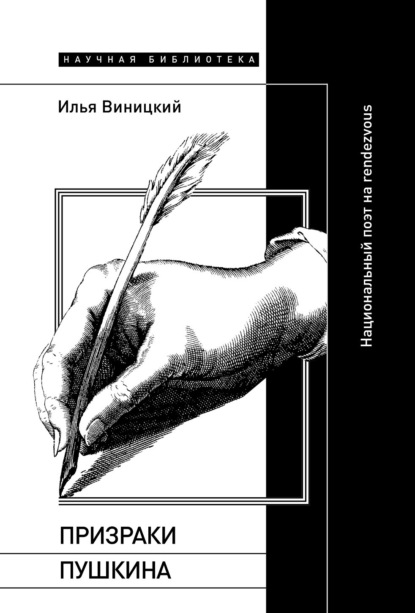
Полная версия:
Призраки Пушкина. Национальный поэт на rendezvous
Мнимый экспромт
Олег Проскурин в остроумной статье «Христос между двумя разбойниками: Историческая судьба одной остроты»131 реконструирует генеалогию растиражированной современным плодовитым популяризатором В. Н. Балязиным «опасной» шутки морского министра А. С. Меншикова о графе А. Х. Бенкендорфе и графе А. А. Аракчееве:
Зная стойкое расположение к себе императора, [Меншиков] никого не боялся и даже повесил у себя в кабинете Распятие, а по обе стороны поместил портреты Аракчеева и Бенкендорфа. Когда заходившие к Меншикову друзья спрашивали: «Что все это значит?» – он, смеясь, отвечал: «Христос, распятый между двумя разбойниками» (с. 745).
Исследователь отмечает в приведенном анекдоте исторические несообразности и указывает на то, что он является искаженным пересказом другого анекдота, помещенного молодым Н. А. Добролюбовым и его друзьями в рукописной студенческой газете «Слухи» в 1855 году (в варианте Добролюбова под разбойниками подразумеваются крайне непопулярные в конце царствования Николая I главноуправляющий путями сообщений и публичными зданиями граф П. А. Клейнмихель и военный министр кн. А. И. Чернышев). Но и этот исторически гораздо более достоверный анекдот вызывает у исследователя справедливые сомнения:
Публичное оскорбление Чернышева означало бы вместе с тем и оскорбление Николая Павловича. Да и Клейнмихель, возведенный в 1839 году за особые заслуги в графское достоинство, пользовался неизменным благоволением и расположением государя (с. 747).
По мнению Проскурина, анекдот о Меншикове на самом деле является переработкой анекдота об остроумии другого Александра Сергеевича – Пушкина. Речь идет об известной шутке Пушкина на торжественном обеде у Смирдина 19 февраля 1832 года, приведенной в воспоминаниях Н. Н. Терпигорева, напечатанных в «Русской старине» в 1870 году:
Пушкин был необыкновенно оживлен и щедро сыпал остротами, из которых одну, в особенности, я удержал в памяти. <Один из тогдашних цензоров В. Н.> Семенов за обедом сидел между Гречем и Булгариным, а Пушкин vis-à-vis с ним; к концу обеда Пушкин, обратясь к Семенову, сказал довольно громко: Ты, Семенов, сегодня точно Христос на Голгофе… Греч зааплодировал, а мы все расхохотались – один Булгарин сморщился и промолчал… (с. 747)132
Этот анекдот, замечает Проскурин, приобрел особую популярность благодаря «красочным» воспоминаниям известного враля В. П. Бурнашева: здесь его рассказывает на литературном вечере 1834 года сам Н. И. Греч. Проскурин убедительно доказывает, что Бурнашев «беззастенчиво использовал» рассказ Терпигорева о пушкинской остроте, который исследователь склонен считать достоверным биографически и по содержанию (с. 750).
Наконец, Проскурин приходит к выводу о том, что Добролюбов – или, точнее, анонимные «преобразители и разносчики „слухов“», снабдившие его соответствующим анекдотом, – приписали известному острослову Меншикову остроту Пушкина, «оторвав ее от одного контекста и приноровив к другому». Такая трансформация «мотивного костяка» пушкинского анекдота («некий остроумец уподобляет знаменитых, но скверных людей разбойникам, распятых с Христом на Голгофе» [с. 751]) оказывается возможной благодаря «законам исторического функционирования фольклоризованного текста» (Проскурин ссылается здесь на наблюдения А. Д. и Е. Я. Шмелевых об эволюции современного – нелитературного – анекдота).
Евангельская шутка
Между тем острота Пушкина, «породившая», по мнению исследователя, шутку Меншикова, не является экспромтом и вообще Пушкину не принадлежит. Эта бродячая шутка встречается в сборниках анекдотов, начиная с эпохи Возрождения (Richard Verstegen, Den Wet-Steen des Verstants, Antwerpen, 1620133) в различных вариантах (о мельниках, адвокатах, нотариусах, священниках, бизнесменах, хозяевах гостиниц и т. п.). В классификации анекдотов Эрнеста Боумана она представлена под номером X313134. Приведем лишь один из многочисленных примеров ее бытования, взятый из французской дореволюционной коллекции анекдотов:
Умирающий просил членов своей семьи привести двух местных мельников и поставить их по обе стороны его постели. «Вот теперь я могу уйти с миром, – объяснил он. – Подобно Христу, я умираю между двумя разбойниками»135.
В XVIII – первой трети XIX века эта евангельская острота приобрела популярность благодаря частым публикациям «Духа Блаженного Франциска Сальского» Ж.‑П. Камю, епископа де Балли (L’Esprit de St. François de Sales by Bishop de Bellay, 1639–1641):
Un pèlerin espagnol, dit-il, assez peu chargé de monnoie, arriva dans une hôtellerie, où, après avoir été traité assez mal, on lui vendit si chèrement ce peu qu’il avoit eu, qu’il appeloit le ciel et la terre à témoin du tort qui lui étoit fait. Il fallut néanmoins passer par là, et encore filer doux, parce qu’il étoit le plus foible.
Il sort de l’hôtellerie tout en colère, et comme un homme dévalisé. Cette hôtellerie étoit située en un carrefour à l’opposite d’un autre, et au milieu il y avoit une croix plantée; il s’avisa de cette adresse, pour soulager sa douleur. Vraiment, dit-il, cette place est un calvaire, où l’on a mis la croix de notre Seigneur entre deux larrons, entendant les maîtres des deux hôtelleries. L’hôtelier de la maison où il n’avoit pas logé, se rencontrant sur sa porte, pardonnant à sa douleur, lui demanda froidement quel tort il avoit reçu de lui pour le qualifier de la sorte. Le pèlerin, qui savoit mieux que manier son bourdon, lui répondit brusquement: Taisez-vous, taisez-vous, mon frère, vous serez le-bon; comme lui disant, Il y avoit deux larrons aux côtés de la Croix de Notre – Seigneur, un bon & un mauvais, vous m’êtes le bon, car vous ne m’avez point fait de mal: mais comment voulez-vous que j’appelle votre compagnon qui m’a écorché tout vif?136
Отсюда ее заимствовали английские собиратели знаменитых острот137. Возможно, Пушкин познакомился с этой остротой в одной из современных публикаций.
Концептуальная острота
Забавно, что именно эта острота (то есть ее «мотивный костяк») была подвергнута детальному анализу Зигмундом Фрейдом в классической работе Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten (1905). Приведем соответствующую цитату из его книги об остроумии полностью:
В одном американском анекдоте говорится: «Двум не слишком щепетильным дельцам удалось благодаря ряду весьма рискованных предприятий сколотить большое состояние и после этого направить свои усилия на проникновение в высшее общество. Кроме всего прочего им показалось целесообразным заказать свои портреты самому известному и дорогому художнику города; появление его картин всегда воспринималось как событие. На большом рауте были впервые показаны эти картины. Хозяева дома подвели наиболее влиятельного критика к стене, на которой оба портрета были повешены рядом, в надежде выудить восторженную оценку. Тот долго рассматривал портреты, потом покачал головой, словно ему чего-то недоставало, и лишь спросил, указывая на свободное пространство между двумя портретами: And where is the Saviour? („А где же Спаситель?“ Или: „Я не вижу тут образа Спасителя“)»138.
Фрейд видит механизм этой образцовой остроты в косвенном описании того, что нельзя высказать прямо:
Вопрос: «Где Спаситель, где его образ?» – позволяет нам догадаться, что вид двух портретов напомнил критику такой же знакомый и ему и нам вид, на котором был, однако, изображен недостающий здесь элемент – образ Спасителя посредине двух других портретов. Существует один-единственный вариант: Христос, висящий между двумя разбойниками. На недостающее и обращает внимание острота, сходство же присуще отсутствующим в остроте портретам справа и слева от Спасителя. Оно может заключаться только в том, что и вывешенные в салоне портреты – это портреты преступников. Критик хотел и не мог сказать следующее: «Вы – два мерзавца»; или пространнее: «Какое мне дело до ваших портретов? Вы – два мерзавца, в этом я уверен». И в конце концов с помощью нескольких ассоциаций и умозаключений он высказал это способом, который мы называем намеком.
Мы тут же вспоминаем, что уже встречали намек. <…> в американском анекдоте перед нами намек, свободный от двусмысленности, и его особенностью мы признаем замещение посредством чего-то, находящегося в логической связи… (Там же)
Эту остроту Фрейд относит к разряду концептуальных шуток, рассчитанных на узнавание слушателем намека. Целью такой остроты является нанесение оскорбления противнику «вместо требуемого заключения», причем те лица, к которым относится оскорбление, занимают высокое положение, что придает шутке рискованный характер139. В целом такие тенденциозные остроты представляют собой форму психологической разрядки-удовлетворения, быстрого и неожиданного высвобождения желаний от гнета общественных условий и рационального контроля (победа суперэго над эго)140. Заметим, что «соль пушкинской шутки» в интерпретации Проскурина полностью соответствует фрейдовской трактовке:
дополнительный блеск остроте Пушкина придает «фигура умолчания» (уподобляя Семенова Христу, он не называет собратьев-журналистов разбойниками; напрашивающуюся подстановку должна совершить аудитория) (с. 751).
Вполне можно назвать эту шутку са́мой фрейдовской остротой Пушкина.
***Итак, надо признать, что анекдот об остроумии смелого министра Меншикова, записанный Добролюбовым, вовсе не обязательно (а скорее всего, вообще не) восходит к пушкинской остроте141. Обе шутки – модификации известной прототипической остроты, лишь примененные легендарными остроумцами к конкретным ситуациям и персонажам (в этом конкретно-историческом применении они, как блестяще показал Проскурин, неожиданны, смелы и злободневны142). Иначе говоря, перед нами не импровизированные, оригинальные шутки, а своего рода культурные цитаты, остроумно приноровленные к разным случаям и лицам.
В свою очередь, представляется весьма правдоподобным влияние именно этой «кощунственной» пушкинской остроты на такого блестящего знатока творчества поэта и ценителя его «высокого литературного фиглярства»143, как Владимир Набоков. На вопрос швейцарского интервьюера о том, что он думает о словах Джорджа Стайнера, назвавшего его вместе с Беккетом и Борхесом тремя «фигурами вероятной гениальности в современной литературе» (the three figures of probable genius in contemporary fiction), Набоков надменно (и творчески) пошутил:
That playwright and that essayist are regarded nowadays with such religious fervor that in the triptych you mention, I would feel like a robber between two Christs. Quite a cheerful robber, though144.
Если эта «концептуальная шутка» действительно связана с пушкинской остротой, безусловно известной Набокову, то ее скрытый смысл заключается в том, что писатель подчеркивает здесь свое родство с другим – русским – гениальным cheerful robber, а не с литературными идолами своих современников. Думается, что Пушкину бы такая адаптация его рискованной остроты понравилась.
К сожалению, нам пока не удалось найти непосредственного литературного источника самой пушкинской шутки, но в принципе это не так уж и важно: в любом случае поэт ее не придумал, а творчески использовал, лишний раз подтвердив свою способность ко «всемирной отзывчивости» и ситуативной находчивости, равно как и месмерическую притягательность для будущих авторов своего легкого, искрометного, артистического и глубоко укорененного в западноевропейской литературной традиции остроумия.
Дракул руссул
Апокрифический каламбур А. С. Пушкина и молдавское культурное возрождение145
Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей.
У него не было и волос, так что рыжим его называли условно.
Д. И. ХармсРуссо туристо облико аморале.
Из одной старой советской комедииХорошие шутки, как мы видели, имеют несколько «родителей». Далее мы рассмотрим еще один красноречивый эпизод, посвященный культурной мифологии и идеологическому бессознательному известной бродячей остроты (или, точнее, каламбура-дразнилки), приписываемой в разных источниках разным авторам, в том числе и Пушкину146. Впервые эту остроту я услышал в детстве от бабушки, которая считала, что ее сочинителем был злоязычный молодой человек «Мишель» Лермонтов:
Vous êtes Jean, vous êtes Jacques,vous êtes roux, vous êtes sot,et cependant vous n’êtes pointJean Jacques Rousseau.[Ты Жан, ты Жак, ты рыжий [roux], ты глупый [sot], но все же ты не Жан-Жак Руссо.]
Потом я узнал, что в XIX веке эту же шутку (но без стихотворной обработки) «сбиратели острот» приписывали большому ценителю каламбуров великому князю Михаилу Павловичу, который в этой остроте метил в скучного и глуповатого сына своей воспитательницы «доброй княгини Ливен» – той, что драла его «за уши в детстве и все-таки была обворожительна»147.
Идеологические истоки этой остроты восходят к французскому фольклору (имена «Жан» и «Жак» традиционно связывались с простаками-дурнями) и знаменитой полемике Вольтера с Руссо148. Первый придумал для оппонента кличку «рыжий Руссо» (Le roux Rousseau), которую использовал в злой сатире на женевского гражданина в поэме La guerre civile de Geneve, ou Les amours de Robert Covelle (сам Руссо действительно был рыжеволосым, но на портретах почти всегда изображался в парике или головном уборе)149.
Возник же этот каламбур, как мне удалось установить, во Франции в 1760‑е годы. Так, его первое (по хронологии) упоминание я нашел в опубликованном в 1874 году письме польского посланника во Франции генерала Фонтене к принцу Франсуа-Ксавье-Августу от 15 февраля 1767 года. Здесь эта острота связывается со знаменитым романтическим скандалом. Граф «Жан-Жак» Стэнвиль-Шуазель заточил неверную жену в монастырь и вызвал своей жестокостью осуждение света, назвавшего его «рыжим дурнем, но не Руссо» (хотя граф и не был глупцом, а только мстительным ревнивцем). Отсюда эта история перекочевала в книгу Гастона Могра (Gaston Maugras) о салонной культуре эпохи Людовика XV (первое издание – 1887 год), основанную на мемуарах герцога де Лозена, известных западным и русским читателям с конца 1810‑х годов (кстати сказать, мы подозреваем, что Пушкин и другие «сочинители» этой остроты, скорее всего, заимствовали ее из какой-то версии этих весьма сомнительных воспоминаний)150. Общим во всех приведенных выше модификациях остроты является то, что она никак не связана с реальным Жан-Жаком, но обращена к его тезкам-самозванцам. Мы не нашли ни одного случая, когда бы омофонное расщепление фамилии великого философа (roux sot – «рыжий дурак») использовалось против него самого.
«Простонародная» кличка «рыжий Руссо», следует заметить, была известна в России как минимум с начала XIX века. Так, «природный» дурак из сатирического цикла князя Ивана Долгорукого «Гудок Ивана Голуна» признавался:
В книгах я не обращаюсь,Арифметики боюсь,С Яшкой рыжим не якшаюсь,Часто с азбукой бранюсь…151В изданиях Долгорукова XIX века указывалось, что под «Яшкой рыжим» подразумевался Jean-Jacques Rousseau. Заметим также, что с XVIII века французское имя Jean-Jacques переводилось на русский как «Иван Яковлевич» (или даже «Иван-Яков») и наоборот – Иваны Яковлевичи в шутку могли зваться на французский лад Жан-Жаками152. Видимо, эта переводная игра с именами, усиленная случайной рифмой «Жак – дурак», создавала особое обаяние интересующей нас шутки для русского уха.
С середины XIX века эта острота стала считаться «русской» на Западе и в России, соединившись на определенном этапе своего бытования с именем главного (по культурной репутации) русского остроумца Пушкина, шутки и эпиграммы которого, как говорил в конце позапрошлого века их доверчивый собиратель Эгль, подобны «брызгам пера, но пера гениального».
Выходка Пушкина
В 1866 году кишиневский сослуживец Пушкина Иван Петрович Липранди включил в состав своих воспоминаний, печатавшихся в «Русском архиве», рассказ о шутке поэта по поводу молдавского литератора, самодовольного (по мнению мемуариста) галломана Янко Руссо, которого «Александр Сергеевич не мог переносить равнодушно». Согласно Липранди, однажды хлебосольный генерал Д. Н. Бологовский, обратившись в присутствии Пушкина к молдавскому поэту Константину Стамати, не без иронии заявил, что с большим удовольствием прочитал рукопись Янко Руссо «о впечатлении, сделанном на него в первое время приезда в Париж, и о сравнении с венским обществом». Стамати, вспоминал Липранди,
принял это за чистую монету и с некоторою гордостью самодовольно отвечал: «C’est notre Jean-Jacques Rousseau». Здесь Пушкин не в силах был более удерживать себя; вскочил со стула и отвечал уже по-русски: «Это правда, что он Иван, что он Яковлевич, что он Руссо, но не Жан-Жак, а просто рыжий дурак!» (roux sot); он действительно несколько рыжеват. Эта выходка заставила всех смеяться, что разделял, и, кажется, искренне, и сам Стамати, который почитал себя классиком и возродителем молдавской поэзии153.
Как видим, остроумный Пушкин представлен здесь как правдоруб и забияка (а по сути дела, великодержавный националист). Показательно, что уже в наше время к этой истории был присочинен финал о том, что то ли обиженный молдавский Руссо вызвал Пушкина на дуэль, то ли сам Пушкин стал инициатором дуэли, которая, впрочем, не состоялась. Наиболее красочно этот выдуманный конфликт описан в эссе некой Асны Сатанаевой:
Вскочив с выпученными глазами и красным лицом, Янко потребовал сатисфакции. Пушкин бросил: – Хоть сейчас готов к вашим услугам! Но их примирили присутствующие154.
Осмеянию в пушкинском каламбуре, переданном Липранди, подвергается хвастун-самозванец – типичный объект острот во французской салонной культуре XVII–XVIII веков. Сама же острота удачно вписывается в идеологический контекст кишиневского периода в биографии Пушкина, когда молодой поэт пережил сильное увлечение социальными идеями «красноречивого сумасброда» Ж.‑Ж. Руссо155, в которых очень скоро разочаровался, подведя итоги своему романтическому руссоизму в поэме «Цыганы» и шутливой каламбурной рифме в «Евгении Онегине»: «Защитник вольности и прав / В сем случае совсем не прав» [VI: 15].
Братья Руссо
Между тем достоверность рассказа Липранди – мемуариста, мягко говоря, пристрастного по отношению к молдавским литераторам, – вызывает определенные сомнения156. О Янко Руссо говорится здесь, что он был младшим братом малообразованного, но благонамеренного бессарабского помещика и чиновника Дино (Дину) Руссо, принимавшего в своем уезде царя в 1818 году. В отличие от ничем не выделявшегося на общем фоне брата Янко считался у местной знати каким-то чудом, потому что провел пятнадцать лет во Франции и Австрии, любил щеголять французскими цитатами и навязывал образованной публике свои мемуары о путешествии по Европе.
Братья Руссо были реальными историческими лицами, но, как мы увидим, их связь с Пушкиным оказалась мифологизированной мемуаристами XIX века. В 1897 году «Русское обозрение» напечатало статью Е. Д. Францевой «А. С. Пушкин в Бессарабии (Из семейных преданий)», в которой рассказывалась фантастическая история о том, как Пушкин нежданно приехал к ним с другом, отцом мемуаристки Дмитрием Кириенко-Волошиновым (тем самым «кишеневским молодым человеком», якобы водившим Пушкина в цыганский табор, которого Максимилиан Волошин склонен был считать своим предком)157. Дикий бессарабский помещик привязал обнаженную женщину на балконе своего дома к столбу. Ее длинные распущенные волнистые волосы, как мантия, покрывали тело «немного ниже колен», а сам злодей обмакивал громадную кисть в ведро с дегтем и мазал куда попало несчастную, «отчаянно вертевшую головой в разные стороны в надежде спасти от этой мазни хоть лицо». Пушкин взлетел по лестнице вверх, и скоро с балкона раздался «страшный, нечеловеческий рев» хозяина усадьбы, которого потом нашли распростертым на полу «с окровавленной головой и лицом». Оказалось, что разгневанный Пушкин сразил его толстой железной палкой с серебряным набалдашником, изображавшим мертвую голову. Цыганка была спасена, но мстительный Дино написал жалобу на поэта, в результате которой генерал Инзов надолго послал Александра Сергеевича в дальние степи следить за истреблением саранчи158.
Францева также сообщила, что Пушкин сочинил на этого дикого Руссо довольно злую эпиграмму, начинавшуюся так:
Вы знаете-ль Куко́но (господина) Дино?Каков древнейший славный род?Ниняка луй о фо́ст (мать его была) скотина,Бабака яр о фо́ст ун (отец был также) скот.Все в Кишиневе уверяют,Что и прапрадед был с хвостом,Но только в точности не знают,Свиньей родился иль ослом.Из поколенья в поколеньеТаким манером дело шло,И двух скотов соединеньеСебя на Дино превзошло:Он был с большою головою,С огромным вздутым животом,С жестокой, зверскою душою,Но с человеческим лицом.Да, впрочем, незачем портретаЕще точнее рисовать:Знакома всем фигура эта,Ее нельзя ведь не узнать…159Показательно, что вся эта ультраромантическая фантазия, восходящая к мифологическим представлениям о молодом Пушкине как благородном защитнике «рабов» от «супостатов»160 и навеянная, как мы полагаем, «Собором Парижской Богоматери» (с Пушкиным в роли Квазимодо), завершается апокрифической эпиграммой поэта, в которой обыгрывается мотив животной натуры «дикой скотины» Дино, а не его «просвещенная» фамилия (кстати, на самом деле он был даже не Руссо, а Русу).
O rus!.. О Русь!
Вернемся к истории Липранди о цивилизованном брате этого помещика Янко, которого мемуарист прямо противопоставляет честному Дино (естественному, в терминах Руссо, человеку). Конечно, возможно, что этого напыщенного Янко Пушкин в самом деле не любил и третировал его своими шутками (отношение поэта к местным боярам хорошо известно и по его письмам, и по свидетельствам современников). Может быть (мы не знаем), этот Янко был огненно-рыжим (кстати сказать, у самого Пушкина в то время были «густые темно-русые кудри»161, но эпитет «рыжий» в истории этого каламбура имел идеологическое, уничижительное, а не физическое значение162).
Проблема, однако, заключается в том, что, во-первых, «реальный» Иван Руссо (точнее, Янку Русу или Руссу, 1790–1844), комиссар орхейского исправничества, был Фомичом, а не Яковлевичем (его отца звали Toma или Tomita Rusul), во-вторых, его биография не включала ни одного из приведенных Липранди экзотических фактов, а в-третьих, некоторые сведения о нем, сообщенные мемуаристом, удивительным образом совпадают с биографией его сына Александра Руссо (1819–1859) – известного молдавского поэта, критика, автора патриотической «Песни Румынии» (Cântarea României), фольклориста и активного участника национального культурно-просветительского движения163. В 1828 году он был отправлен учиться в Швейцарию, увлекся либеральными идеями La jeune Suisse, жил в Париже, Вене, вернулся в Бессарабию, опубликовал по-французски брошюру о путешествии по Европе и Молдавии и несколько пьес либерального содержания, в 1846 году был сослан за оппозиционную местным властям деятельность в монастырь и в 1848–1849 годах стал одним из идеологов трансильванского революционного движения.
Замечательно, что в переписке с друзьями он сравнивал самого себя с французским философом («мой однофамилец Жан-Жак страдал всю жизнь! Какое лестное для меня сравнение!»)164 и в какой-то момент поменял написание своей фамилии на Rousseau (точнее, Russo), чтобы она не была похожа на слово «русский» (le Russe, Rusu), которое в конце 1840‑х годов ассоциировалось у его сподвижников с «жандармом Европы»165.
Имперский юмор
Разумеется, этот «молдавский Руссо» никак не мог быть объектом неприязни его тезки Пушкина (первому было в 1823 году от силы четыре года). Очень похоже, что русский империалист и видный деятель сыскной полиции Липранди в образе Ивана Руссо (исторического, еще раз повторим, лица) совместил какие-то реальные факты с деталями биографии известного молдавского поэта более позднего времени, представлявшего группу бессарабских литераторов, ориентировавшихся на Францию и Австрию, превратив тем самым вспыльчивого Пушкина в такого же, как и сам автор воспоминаний 1866 года, великодержавного патриота.
Следует подчеркнуть, что в воспоминаниях Липранди истории о пушкинской шутке предшествует идеологически маркированное замечание, что в начале 1820‑х годов «Париж не был еще так знаком молдаванам, как это ныне», и только после Бухарестского мира Россия перестала быть их культурным центром из‑за ошибочной внешней политики российской империи. «Вена сделалась их предметом, – с сожалением замечал Липранди, – а с 1830 года – Париж»166. Иначе говоря, бессарабский Руссо мешал, с точки зрения генерала Липранди, русификации региона167. В свою очередь, грубый, но благонамеренный брат Ивана Руссо Дино предстает в мемуарах (опять же со ссылкой на авторитет Пушкина) как идеальный помещик завоеванной провинции: Пушкин, «вполне сознавая неловкость [Дино] Руссо, вместе с тем соглашался, что вновь завоеванные народы должны благоговеть каждый по своему разуму перед царем»168. (Насколько это наблюдение соответствует взглядам Пушкина того времени, другой вопрос.) Иначе говоря, воспоминания Липранди о суждениях Пушкина о двух молдавских братьях Руссо разыгрывают в лицах имперскую идеологию генерала-мемуариста: противопоставление двух типов подданных с окраин – простого законопослушного варвара и опасного прозападного либерала.



