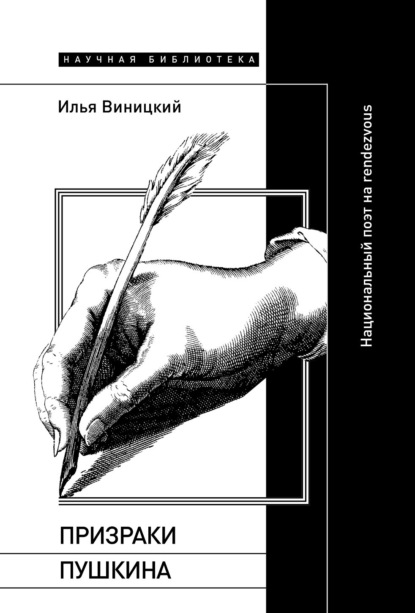
Полная версия:
Призраки Пушкина. Национальный поэт на rendezvous
…И последний по времени 200-летний юбилей поэта показал, что миф о тени Пушкина продолжает действовать. Не останавливаясь сколько-нибудь подробно на этой интересной теме, укажем лишь на показательную «пушкинскую анкету», предложенную «Литературной газетой» десяти современным писателям и включающую, в частности, следующие вопросы:
…3. В чем, по-вашему, заключается присутствие П. в нашей жизни? <…>
5. О чем бы вы хотели его спросить?
6. О чем поспорить?86
Вот некоторые ответы:
О том, почему у великих покойников пока нет права с небес спрашивать с ныне живущих рекламодателей и разных «ведов» по большому счету, а еще лучше – давать некоторым из них в морду (Виктор Конецкий);
Как ему, земному в жизни, удалось стать неземным в поэзии (Рыгор Бородулин);
То и дело обращаюсь к нему с вопросами: о народе, России, о Чечне, об истории, о прозе, литературе… (Михаил Рощин)87
Не стал исключением и нынешний век (особенно настоящий исторический момент). Приведу лишь один пример, чтобы не повторяться. На главном духовно-военном телеканале России 20 июля 2022 года вышло такое пропагандистское «спиритическое» интервью с Пушкиным:
Вполне критично относясь ко многим вещам в современной ему России, Пушкин однозначно является ее страстным и горячим патриотом. Первый вопрос мы задали именно ему:
Царьград: Александр Сергеевич, радио «Свобода» на днях сообщило, что Вы являетесь активным сторонником Европы и ценностей западного общества. С кем Вы, Александр Сергеевич? Не хотите ли уехать из «этой страны»?
Александр Пушкин: Я уже писал об этом в письме Петру Чаадаеву: «Многое мне претит, но клянусь честью – ни за что в мире я не хотел бы переменить Родину или иметь иную историю, чем история наших предков, как ее нам дал Бог».
Царьград: Сегодняшняя Европа не вступает в прямой военный конфликт с Россией, но делает всё, чтобы поддержать подконтрольный себе русофобский режим на Украине. Что бы Вы сказали «нашим западным партнерам»?
Пушкин: Ничто не ново под Луной. Еще в 1831 году в письме Бенкендорфу я писал: «Озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, а ежедневной бешеной клеветою». Тогда же написал и стихотворение «Клеветникам России», обращенное, как у вас в XXI веке принято говорить, к «лидерам общественного мнения» Европы. Вот послушайте. [Читает «Клеветникам России». – И. В.]
Царьград: Право же, Александр Сергеевич, словно о сегодняшнем времени написано. И после этого Вас кто-то считает западником? Побольше бы нам сегодня таких «западников»!88
Примечательно, что ответы загробного Пушкина, противопоставленные автором пропагандистской статейки либеральной интерпретации поэта как великого гуманиста и западника, в целом повторяют тезисы борцов с его империалистическим наследием. (Почему-то вспомнил, что в советском кафе «Космос», куда меня в детстве водила мама вкушать воздушное мороженое, была музыкальная машина: нажмешь на кнопку – одну мелодию играет, на другую – другая раздается по воле слушателя, и т. д. Так и Пушкин отзывается – были бы желающие, а цитаты всегда найдутся.)
Заключение
Согласно формулировке, предложенной Б. М. Гаспаровым, образ Пушкина в русской культуре
воспринимается как всеобъемлющее выражение русского духовного мира – своего рода энтелехия, соприсутствующая в сфере русской духовности во всех ее проявлениях и при всех поворотах ее исторической судьбы89.
Это, конечно, верно для поэтов и интеллектуалов («высокий» спиритуализм), но не для коллективного реалистического восприятия Пушкина в русской культуре. Здесь идеальный образ поэта воспринимается грубо материалистически. Миф о воплотившейся в Пушкине русской душе (Гоголь) постоянно нуждался и нуждается в эмпирических, материальных фактах, подтверждающих соприсутствие Пушкина в русской культуре, будь то публикация новонайденных текстов и рукописей поэта, обнаружение неизвестных биографических сведений о поэте и реликвий, связанных с его именем, появление новых портретов, памятников и фильмов о Пушкине и т. д. и т. п.
Иначе говоря, возникший в позитивистской второй половине XIX века культ Пушкина – это не культурная (квази)религия, вроде почитания шекспировской тени, описанного Марджори Гарбер (Marjorie Garber. Shakespeare’s Ghost Writers [1987]), но своего рода культурное суеверие, обнажающее характерные для того времени идеологические и психологические конфликты. Основными признаками последнего являются:
(1) нежелание общества (точнее, его культурно-активной страты) примириться со смертью поэта;
(2) формирование «очищенного», идеализированного, образа «посмертного» Пушкина, отвечающего интересам той или иной идеологической группы;
3) представление о заинтересованности последнего в настоящей жизни;
4) постоянное вызывание его «материального» образа с помощью компетентных посредников (когда-то друзья поэта, потом поэты, пушкинисты, критики, художники, философы, кинематографисты и т. д.) и попытка узнать его мнение о различных вопросах, волнующих современность;
5) вкладывание в уста поэта суждений, отражающих взгляды и миросозерцание «вызывающего».
Используя слова из стихотворения В. В. Маяковского о том, как Владим Владимыч беседовал с памятником Пушкина, можно ответить, что перед нами нечто национального «спиритизма вроде».
…А тут вот еще и ChatGPT изобрели. Ждем!
«Байроновский парадокс»
Психологический портрет как историко-культурная проблема90
Одна из лучших мыслей Шкловского – то, что психология начинается с парадокса.
Лидия Гинзбург 91…никому не свойственны до такой степени быстрые переходы от самой томительной, надрывающей душу грусти к самой бешеной, исступленной веселости!
Виссарион Белинский 92В этой работе мы хотели бы остановиться на еще одной спиритуально-мифологической проблеме – психологической авторепрезентации самого Пушкина, сконструированной последним из значимого для него литературного материала и воспринятой его интерпретаторами и почитателями как «природное» качество.
Кстати, – замечал поэт в своем незавершенном «Путешествии из Москвы в Петербург» (1833–1835), – я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости (XI: 248).
За этими словами в беловой рукописи идет заголовок «Москва и Петербург», но что это за веселое произведение и кто его меланхолический автор, так и осталось неизвестным.
Загадка «великого меланхолика», знающего минуты веселости, уже почти полтора века привлекает к себе внимание пушкинистов. На эту роль рассматривалось несколько претендентов: Гоголь с его статьей «О движении журнальной литературы», содержавшей сравнение обеих столиц (Тихонравов; Лернер), Вяземский с его ранним сатирическим стихотворением «Москва и Петербург» (Каллаш), наконец, сам Пушкин (Гиппиус).
В известной статье «Великий меланхолик» В. Э. Вацуро поддержал версию Гиппиуса и предложил ряд новых аргументов в ее пользу: под меланхолическим «приятелем» Пушкин подразумевал не Вяземского и не Гоголя, а самого себя; репутация Гоголя как смеющегося меланхолика относится к более позднему времени; наконец, эта репутация, по убедительной гипотезе исследователя, создавалась Гоголем в 1840‑е годы по «образцу личности Пушкина» – как своего рода оправдание собственной веселости и знак тайного преемничества по отношению к великому поэту93.
Точные и изящные наблюдения и выводы, предложенные исследователем, не исчерпывают богатства привлекшей его внимание темы. В предлагаемой главе мы постараемся показать, как связано «самоопределение» Пушкина с его представлениями о меланхолии и веселье, сложившимися в 1830‑е годы, и как эти представления, в свою очередь, связаны с историей романтического (байроновского) психологизма и психологического портретирования того времени94. В этом историческом (генеалогическом) плане, как мы полагаем, архаичный и в значительной степени дискредитированный частыми метафорическими использованиями термин «психологический портрет» (или образ) получает новое значение и – в перспективе – может стать достаточно эффективным средством научного анализа эмоционального self-fashioning (С. Гринблатт) писателей разных стран и эпох95.
Меланхолия и веселость
В начале XIX века мадам де Сталь, а вслед за ней Шатобриан и другие истолкователи «романтической души», утверждали, что меланхолия – удел поэтов со времен утверждения в Европе христианства и – в своей современной ипостаси – элемент художественной натуры культурного героя XIX столетия: разочарованный скептик, скитающийся по миру в поисках неосуществимых любви и душевного покоя. Главным европейским меланхоликом к концу 1810‑х годов становится Байрон, и споры о меланхолии на страницах литературных произведений и журнальных статей того времени оказываются неотделимы от вопросов о природе, происхождении и значении угрюмости английского поэта и его героев.
Разумеется, смеяться байроническому меланхолику не возбранялось, но в отличие от традиционного для литературы XVIII века образа смеющегося меланхолика, разгоняющего весельем скуку или выводящего на всеобщее осмеяние глупости и пороки общества96, «смех» романтического героя воспринимался как манифестация всеобъемлющего скептицизма (сатанинский «хохот», приписывавшийся консервативными критиками автору Manfred и Cain). Иначе говоря, если в системе эмоциональных координат XVIII века «веселость» была «выше» меланхолии (нам приходилось писать о том, как Екатерина Великая высмеивала масонов-угрюмцев в своих комедиях и обрушивалась на несчастного «гипохондрика» Радищева; при этом она нередко говорила о собственных припадках грусти, вызванных, как правило, утратой любовников97), то в романтической эстетике она вытесняется на эмоциональную периферию98.
Такая психологическая «однотонность» романтического характера подвергается переосмыслению в начале 1830‑х годов. Важную роль в этом процессе сыграла, как мы полагаем, публикация Томасом Муром биографии Байрона, в которой психологическому портретированию (и автопортретированию) английского поэта уделяется исключительное место. Главным парадоксом характера Байрона Мур считал соединение в нем глубокой меланхолии и неистощимой веселости (gaiety) – «двух крайностей, между которыми его характер <…> таким удивительным образом вибрировал»99.
Неизменно находя его оживленным, когда мы были вместе, – признавался биограф, – я часто подшучивал над мрачным, как считалось, тоном его поэзии; но его постоянный ответ заключался в том, что <…> хотя он и бывает весел и смешлив с теми, кого любит, в глубине души он является одним из самых печальных существ в мире100.
Отсюда вытекают три объяснения байроновскому парадоксу, обозначенные Муром и развитые другими авторами (от Вальтера Скотта до графини Гвиччиоли101): меланхолия поэта – это лицемерие или условная поза102; меланхолия и веселость – равноправные состояния, сменявшие друг друга в сознании Байрона (подобно двум мироощущениям, представленным в диптихе Мильтона L’ Allegro и Il Penseroso); и наконец, представление о веселости как своего рода верхушке душевного айсберга, скрывающего глубочайшую печаль103.
Последнее толкование в книге Мура опирается на следующее признание его великого друга: «„Одни люди удивлялись меланхолии, наполняющей мои произведения, – писал Байрон для самого себя в одном из дневников. – Другие удивлялись моей веселости“. Он вспоминал затем, как однажды жена сказала ему: „В глубине души вы самый глубокий меланхолик из всех людей и часто именно тогда, когда вы кажетесь самым веселым человеком“» («at heart you are the most melancholy of mankind, and often when apparently gayest»)104.
Характер Байрона, иными словами, остается меланхолическим (величайший меланхолик), но получает дополнительное эмоциональное измерение, позволяющее глубже «прочитать» душевную и творческую жизнь поэта, а через нее и его творчество (прежде всего такие произведения, как «Беппо» и «Дон Жуан»).
Здесь стоит заметить, что в контексте английской истории меланхолии «байроновский парадокс», отмеченный Муром, не был таким уж парадоксальным. Более того, он опирался на традиционные представления о симптомах меланхолии, восходящие к гуморальной теории и канонизированные еще Робертом Бертоном в «Анатомии меланхолии» (Anatomy of Melancholy, 1621). Например, в разделе, озаглавленном Symptoms of Head-Melancholy, Бертон указывал, что страдающие этим заболеванием переживают «горестные страсти и неумеренные возмущения ума, страх, печаль и т. д.», но не все время, ибо иногда они веселы, склонны к смеху, который вызывает удивление и, по авторитетному заключению самого Галена, «происходит от смешения с кровью». Такие больные могут быть румяны, радоваться шуткам, а иногда и подшучивать над собою, но эта веселая диспозиция вскоре сменяется глубокой печалью.105. Новизна психологического подхода Мура к феномену Байрона заключалась в романтизации, индивидуализации и эстетизации не сводимого к общему знаменателю эмоционального образа поэта – образа, скрывавшего глубокую душевную тайну, осмысленную как источник его творчества и жизненного поведения. Канонизированный мемуаристом и другом поэта «парадокс» фиксировал важный этап в английской истории меланхолии и, как мы полагаем, в западной эмоциональной истории XIX века – «психологический портрет», сохраняя связь со старой меланхолической традицией, терял былую однозначность, становился подвижным, непредсказуемым и потому загадочным.
Внутренняя байронизация
Выход муровской биографии Байрона (и ее французского перевода) стал одним из главных литературных событий конца 1820‑х годов. Биография открывала читателю нового, «настоящего» Байрона – не мрачного романтического героя, извлеченного критиками из сочинений поэта, но человека, со своими страстями, привязанностями, странностями, психологией (разумеется, этот образ был тщательно сконструирован биографом). Русские авторы, вослед за западными (например, А. Мюссе), с увлечением искали и находили в этом новом образе собственные черты или черты своих друзей. Так, например, Погодин признавался, что узнавал самого себя в воссозданном Муром характере Байрона106, а князь Вяземский и его супруга «с содроганием» узнавали в представленной Муром истории отношений Байрона с женой прообраз будущей судьбы Пушкина и Натальи Гончаровой (интересно, что Вяземский считал малый рост Пушкина эквивалентом байроновской хромоты как источника внутренней травмы107).
Писатели пушкинского круга внимательнейшим образом проштудировали эту книгу, и, как нам представляется, ни один из них не прошел мимо вышеупомянутого парадокса байроновской натуры – слишком притягательна была возможность применить этот «парадокс» к описанию собственного (и своих друзей) характера и творчества, вплоть до переосмысления последних «задним числом» (так, Вяземский спустя много лет будет говорить о замечательной черте своего друга Жуковского – певца меланхолии, знавшего моменты истинной веселости108).
Как известно, биографию Байрона Пушкин прочитал в начале 1830‑х годов во французском переводе. Плодом этого прочтения стала незаконченная статья поэта с названием, заимствованным из комедии Грибоедова: «О Байроне и о матерьях разных», а также ряд разрозненных упоминаний и замечаний о личности английского поэта. По мнению А. А. Долинина, в 1830‑е годы Пушкин стремился дистанцироваться от байронизма с его «смешными сторонами» (аристократическая спесь, презрение к человечеству и т. п.), которые недоброжелательные критики замечали в характере русского поэта. Концепция байроновского типа как «протеической» личности, предложенная Муром, считает исследователь, была неприемлема для Пушкина, равно как неприемлемы для него были и попытки журнальных критиков представить английского поэта эмоциональной «эмблемой» романтической эпохи. Герой заметки о Байроне – это «необыкновенный человек», характер которого был «сформирован неповторимым и непредсказуемым сцеплением случайных обстоятельств».
Если бы «странное лицо» Байрона полностью отразилось в пушкинском зеркале, – афористически заключает Долинин, – оно было бы так же мало похоже на образ поэта, созданный романтической критикой, как Емелька Пугачев на Байронова Лару109.
Такое истолкование «исторического байронизма» Пушкина представляется нам не совсем точным. Интерес Пушкина к личности и творчеству Байрона рос со временем110, иногда принимая форму настоящей мании. В современных оценках парадоксальной психологии английского поэта, обобщенных Томасом Муром, Пушкин мог найти подходящую культурную модель (или, используя термин А. Л. Зорина, подходящую психологическую матрицу111) для описания собственного характера (каким он хотел казаться в глазах друзей и современников)112. О сочетании веселости и меланхолии в своем характере Пушкин начал говорить друзьям, как показывает Вацуро, с конца 1820‑х годов113.
В большом кругу, – вспоминал один из его современников, – он был довольно молчалив, серьезен, и толстые губы давали ему вид человека надувшегося, сердитого <…> Но в кругу приятелей он был совершенно другой человек <…> он был удивительной живости, разговорчив <…> громко, увлекательно смеялся <…> Когда он был грустен, что часто случалось в последние годы его жизни, ему не сиделось на месте: он отрывисто ходил по комнате, опустив руки в карманы широких панталон, и протяжно напевал: «грустно! тоска!». Но веселый анекдот, остроумное слово развеселяли его мгновенно…114
«Переходы от порывов веселья к припадкам подавляющей грусти происходили у Пушкина внезапно», – рассказывал, со слов матери, племянник поэта Л. Н. Павлищев, объясняя эту переменчивость «нервною раздражительностью в высшей степени»115.
Наконец, пушкинский приятель барон Розен в своих воспоминаниях о поэте, цитируемых Вацуро, прямо указывает на байроническую натуру своего друга.
Он был характера весьма серьезного и склонен, как Бейрон, к мрачной душевной грусти, – замечал Розен. – Чтобы умерять, уравновешивать эту грусть, он чувствовал потребность смеха; ему ненадобно было причины, нужна была только придирка к смеху! В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и будто бы ему самому при этом невесело на душе. Неожиданное, небывалое, фантастически-уродливое, физически-отвратительное, не в натуре, а в рассказе, всего скорее возбуждало в нем этот смех116.
«Байроновский парадокс» в интерпретации Мура мог восприниматься Пушкиным как своего рода эмоциональный ключ к осмыслению и культурной репрезентации собственной душевной жизни и поэзии (здесь уместно сопоставить характеристику манеры байроновского Дон Жуана: «Now grave, now gay, but never dull or pert»117 – c собраньем «полусмешных, полупечальных» глав «Евгения Онегина»). Можно сказать и иначе: в 1830‑е годы Пушкин подражал не байронизму как определенной идеологии и стилю, но Байрону как личности «с высоким человеческим талантом» (XIII: 99; в предложенном Муром «объяснении» последней). Причем эмоциональная двойственность и непредсказуемость автора «Каина» и «Жуана» воспринималась Пушкиным не только как артистическая, но и как аристократическая черта (Byron’s aristocratic levity).
«Созвучие вселенной»
Как заметил Вацуро, странную любовь меланхолика Пушкина к «фарсам» Гоголя Розен объяснял «патологическим» пристрастием к смешному:
…он всегда желал иметь около себя человека милого, умного, с решительною наклонностию к фантастическому: «Скажешь ему: пожалуйста, соври что-нибудь! И он тотчас соврет, чего никак не придумаешь, не вообразишь!»118
В свою очередь, розеновские воспоминания заставили Гоголя, по гипотезе Вацуро119, создать собственное истолкование его отношениям с Пушкиным: он не был шутом при меланхолике-поэте (обвинение Розена); он сам был с ранней юности глубоким меланхоликом, пытавшимся своими веселыми фантазиями развеять свою тоску (подобно лорду Байрону, сказали бы мы, вослед за Розеном!).
Образ Пушкина как великого меланхолика, знакомого с приступами веселья, несомненно играл большую роль в самоопределении Гоголя в 1840‑е годы. Между тем, как мы постарались показать, истоки пушкинской и гоголевской интерпретаций собственных характеров восходят к общему образцу, зафиксировавшему в «психологической истории» литературы XIX века момент перехода к более сложному представлению о «диалектике» авторской души, характерному для 1830‑х и 1840‑х годов. Так, в концепции пушкинской личности, развитой Белинским, важное место занимает представление о глубокой грусти поэта, сокрытой под маской веселости:
…эта грусть – не болезнь слабой души, не дряблость немощного духа; нет, эта грусть могучая, бесконечная, грусть натуры великой, благородной. Русский человек упивается грустью, но не падает под ее бременем, и никому не свойственны до такой степени быстрые переходы от самой томительной, надрывающей душу грусти к самой бешеной, исступленной веселости! И в этом случае поэзия Пушкина великий факт: нельзя довольно надивиться ее быстрым переходам в «Онегине» от этой глубокой грусти, источник которой есть бесконечное духа, к этой бодрой и могучей веселости, источник которой есть крепость и здоровость духа120.
Как мы видим, культурно-психологическая модель, восходящая к «байроновскому парадоксу» через посредство Пушкина, «национализируется» русским критиком: сочетание глубокой грусти и безудержного веселья представляет своего рода эмоциональный диапазон русской души, раскрывшийся в творчестве величайшего русского поэта-меланхолика121. (Примечательно, однако, что Белинский избегает «иностранного» слова «меланхолия» в описании эмоционального мира русского поэта; место этого слова занимает в его лексиконе «грусть»122.)
Нам остается добавить, что в XX веке «байроновский парадокс» Пушкина (причудливое сочетание двух крайностей – веселья и меланхолии) стал предметом острой эстетико-философской дискуссии о жизнерадостности и грусти в характере русского поэта. Д. С. Мережковский, отмечая «необычайную бодрость, ясность его духа» и никогда не изменявшую ему жизнерадостность, называет Пушкина «самым светлым, самым жизнерадостным из новых гениев»123. В свою очередь, Вересаев указывает на глубокую ошибочность такого взгляда. Знаменитый «закатистый, веселый, заражающий смех» Пушкина —
это того рода смех, о котором Ницше сказал: «Человек страдает так глубоко, что принужден был изобрести смех. Самое несчастное и самое меланхолическое животное, – по справедливости, и самое веселое».
Гармония Пушкина, заключает Вересаев, «именно обусловливалась полнотою погружения в красоту иллюзии, поэзия его именно была цветком, выросшим из мрачной пропасти»124. Если Пушкин видел в психологическом портрете Байрона, созданном Муром, «отражение» (или прообраз) своего «подвижного» романтического характера, Белинский находил в «психологическом портрете» Пушкина отражение могучего в своей двойственности «русского духа», то символисты, вослед за Гоголем, использовали этот образ как зеркало, отражавшее (выражавшее) их собственную двуединую картину «мировой души»:
Не миновать нам двойственной сей грани:Из смеха звонкого и из глухих рыданийСозвучие вселенной создано125.Остроумие Пушкина,
или Самая фрейдовская шутка поэта126
Многие из его шуток, эпиграмм до сих пор не утратили своей свежести и искрящейся веселости. Если мы с некоторой почтительностью, граничащей с благоговением, собираем такие реликвии знаменитостей, как шарики, скатанные из хлеба Гоголем, или окурки папирос Рубинштейна, с тем большим уважением мы должны относиться к этим, хотя и брызгам пера, но пера гениального.
Эгль. Шутки и остроты А. С. Пушкина 127«Что скажешь, брат Пушкин?» – спросил Петрушевский.
«Стоп машина», – сказал Пушкин.
Д. И. Хармс 128Поговорим немного о «смехе звонком» – важном компоненте пушкинского мифа в русской культурной мифологии. Шутки поэта (далеко не всегда удачные) давно превратились в объект эстетического любования и собирания – от выпушенной к столетнему юбилею поэта небольшой брошюры «Шутки и остроты А. С. Пушкина» до недавней публикации Алины Бодровой в «Арзамасе» «Топ-10 шуток Пушкина»129. Цель нашей заметки заключается в том, чтобы привлечь внимание читателя к проблеме пушкинского «искрометного юмора», чаще всего воспринимаемого как некая данность, а не предмет для историко-литературной рефлексии. Были ли знаменитые пушкинские шутки в самом деле спонтанными импровизациями? Как соотносились они с письменной традицией сборников bon mots и анекдотов, приписываемых знаменитым острословам? Как, кем и зачем создавался миф об остроумии Пушкина? В чем заключаются эстетические и психологические особенности его острот в контексте русской культуры остроумия первой трети XIX века? Разумеется, эти вопросы требуют долгого и кропотливого исследования (исследований) с опорой на уже имеющиеся научные работы130. Предлагаемая полемическая заметка – лишь скромный лепт в исследование этой богатой и, как представляется, важной и веселой темы.



