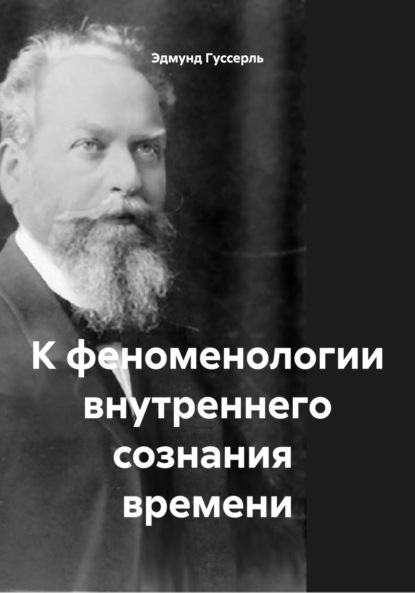
Полная версия:
К феноменологии внутреннего сознания времени
В последовательности объектов, совершенно схожих (идентичных по содержанию) и данных только в последовательности, а не как сосуществующие, мы имеем своеобразное совпадение в единстве одного сознания: последовательное совпадение. Естественно, мы говорим условно, ибо объекты действительно отделены друг от друга, интендированы как образующие последовательность и разделены временной протяжённостью.
И всё же: если в последовательности даны несхожие объекты со схожими выдающимися моментами, то, так сказать, «линии схожести» проходят от одного к другому, а в случае сходства – линии сходства. Здесь есть взаимосвязь, которая не конституируется в акте созерцания, соотносящего то, что оно созерцает; есть взаимосвязь, предшествующая всякому «сравнению» и всякому «мышлению» как предпосылка интуиций схожести и различия. Только схожее действительно «сравнимо»; а «различие» предполагает «совпадение» – то есть реальное объединение схожих вещей, связанных в переходе (от одной к другой!) (или в их сосуществовании).
§ 19. Различие между удержанием и воспроизведением (первичная и вторичная память, или фантазия).На этом месте наша позиция относительно теории Брентано, согласно которой происхождение аппрегензии времени лежит в области фантазии, окончательно определена. Фантазия – это сознание, характеризующееся как ре-презентация (воспроизведение). Безусловно, существует репрезентированное время, но оно необходимо отсылает к изначально данному времени, времени не фантазированному, а презентированному. Репрезентация противоположна акту, дающему нечто изначально; из неё не может «возникнуть» никакая презентация [Vorstellung]. То есть фантазия – это не сознание, которое может представить как данное ту или иную объективность или её существенный и возможный признак. Не давать сам объект – сама сущность фантазии. Даже понятие фантазии не возникает из фантазии. Ведь если мы хотим, чтобы нам было изначально дано, что такое фантазия, мы, конечно, должны создавать фантазии; но это само по себе ещё не означает, что нам дано, что такое фантазия. Мы должны, разумеется, созерцать фантазирование, воспринимать его: восприятие фантазии – это сознание, которое изначально даёт объект для формирования понятия фантазии. В этом восприятии мы видим, что такое фантазия; мы схватываем её в сознании данности самой вещи.
Внимательное сравнение переживаний с обеих сторон показывает, что между репрезентирующей памятью и первичной памятью, расширяющей теперь-сознание, существует сильное феноменологическое различие. Допустим, мы слышим два или три тона и во временном расширении акта имеем сознание только что услышанного тона. Очевидно, это сознание по сути одинаково, независимо от того, воспринимается ли элемент тональной структуры, образующей единство временного объекта, как теперь или же это уже не происходит, и образовавшаяся форма остаётся интендированной только в удержании. Теперь предположим, что пока непрерывная интенция, направленная на только что услышанный тон или тональный процесс, жива, мы воспроизводим его снова. Я репрезентирую себе такт, который только что слышал и на который моё внимание ещё направлено, внутренне воспроизводя его ещё раз. Различие бросается в глаза. В репрезентации у нас снова есть тон или тональное образование со всем его временным расширением. Репрезентирующий акт протяжён во времени точно так же, как был протяжён прежний перцептивный акт. Он воспроизводит его; он заставляет такт развёртываться тонально, фаза за фазой, интервал за интервалом. При этом он также воспроизводит фазу первичной памяти, которую мы выбрали для сравнения. Тем не менее, репрезентирующий акт – не простое повторение; и различие, очевидно, состоит не только в том, что в одном случае у нас есть простое воспроизведение, а в другом – воспроизведение воспроизведения. Напротив, мы находим радикальные различия в содержании. Они проявляются, когда мы спрашиваем, в чём состоит разница между звучанием тона в репрезентации и остаточным сознанием звучания, которое мы также ещё удерживаем в фантазии. Воспроизведённый тон во время «звучания» – это воспроизведение звучания. Сознание, остающееся после воспроизведённого звучания, уже не является воспроизведением звучания, а воспроизведением звучания, которое только что было и ещё слышится, и оно представляется совершенно иначе, чем представляется звучание. Фантазмы, представляющие тоны, очевидно, не остаются в сознании, как если бы каждый тон продолжался в репрезентации как данность, сохраняющая свою идентичность. Иначе интуитивное представление времени, представление временного объекта в репрезентации, конечно, не могло бы возникнуть. Воспроизведённый тон проходит. Его фантазм не остаётся там как идентично тот же самый, непрерывно подвергаясь своей аппрегензии; вместо этого он модифицируется изначальным образом и служит основой для репрезентирующего сознания длительности, изменения, последовательности и т. д.
Модификация сознания, превращающая изначальное теперь в воспроизведённое теперь, – это нечто совершенно иное, чем модификация, превращающая теперь, будь то изначальное или воспроизведённое, в прошлое. Последняя модификация имеет характер непрерывного оттенения; подобно тому, как теперь непрерывно оттеняется в прошлое и более отдалённое прошлое, так же и интуитивное временное сознание непрерывно оттеняется. С другой стороны, мы никогда не говорим о непрерывном переходе восприятия в фантазию, впечатления в воспроизведение. Последнее – это различие между дискретными вещами. Следовательно, мы должны сказать: то, что мы называем изначальным сознанием, впечатлением или даже восприятием, – это акт, который непрерывно оттеняется. Каждая конкретная перцепция подразумевает целый континуум таких оттенений. Но воспроизведение, фантазийное сознание, также требует точно таких же оттенений, только репродуктивно модифицированных. Существенно для обоих этих переживаний, что они должны быть расширены таким образом, что точечная фаза никогда не может существовать сама по себе.
Естественно, это оттенение данного, будь оно дано изначально или репродуктивно, касается (как мы уже видели) аппрегензионных содержаний. Восприятие основывается на ощущении. Ощущение, которое функционирует презентативно для объекта, образует непрерывный континуум; и фантазм точно так же образует континуум для репрезентации фантазийного объекта. Тот, кто предполагает существенное различие между ощущениями и фантазмами, конечно, не может утверждать, что аппрегензионные содержания для только что прошедших фаз времени – это фантазмы; ведь эти содержания непрерывно переходят в аппрегензионные содержания, принадлежащие теперь-моменту.
§ 20. «Свобода» воспроизведения.Между изначальным и воспроизведённым течением, принадлежащим «процессу отступания назад во времени», возникают примечательные различия. Изначальное появление и утекание модусов течения в появлении – это нечто фиксированное, нечто, о чём мы сознаём через «аффекцию», на что мы можем только смотреть (если нам удаётся достичь спонтанности взгляда). Репрезентирование, напротив, – это нечто свободное, свободное протекание: мы можем осуществлять репрезентацию «быстрее» или «медленнее», более отчётливо и явно или более смутно, единым мгновенным актом или в артикулированных шагах и т. д. Более того, сама репрезентация – это событие, принадлежащее внутреннему сознанию, и как таковое она имеет своё актуальное теперь, свои модусы течения и т. д. И в том же самом протяжении имманентного времени, в котором репрезентация актуально происходит, мы можем «в свободе» разместить бо́льшие или меньшие части репрезентированного события вместе с его модусами течения и, следовательно, пробежать его быстрее или медленнее. Когда мы делаем это, относительные модусы течения репрезентированных точек временного протяжения остаются неизменными (при условии, что идентифицирующее совпадение происходит непрерывно). Я постоянно репрезентирую одно и то же – всегда ту же самую непрерывность модусов течения временного протяжения, всегда само временное протяжение в его способе явления [im Wie]. Но если я таким образом снова и снова возвращаюсь к той же начальной точке и той же последовательности временных точек, эта начальная точка тем не менее непрерывно отступает всё дальше и дальше назад во времени.
§ 21. Уровни ясности, относящиеся к воспроизведению.Более того, репрезентированное предстаёт передо мной в более или менее ясной форме, и различные модусы этой неясности касаются всего репрезентированного объекта и его модусов сознания. В случае изначальной данности временного объекта мы также обнаружили, что объект сначала появляется ясно и живо, а затем с уменьшающейся ясностью переходит в пустоту. Эти модификации принадлежат течению. Но хотя те же самые модификации, безусловно, происходят в репрезентации течения, там нас ожидают и другие «неясности». А именно, «ясное» (в первом смысле) уже предстаёт передо мной как бы увиденным сквозь вуаль, неясно – и, более того, более или менее неясно и т. д. Поэтому мы не должны смешивать один вид неясности с другим. Специфические модусы яркости и неяркости репрезентации, её ясности и неясности, не принадлежат к репрезентированному или принадлежат к нему только благодаря специфическому способу, которым конкретная репрезентация интендирует свой объект; они принадлежат к актуальному переживанию репрезентирования.
§ 22. Эвиденция воспроизведения.Также существует примечательное различие относительно эвиденции первичной и вторичной памяти. То, что я сознаю ретенционно, абсолютно достоверно, как мы видели. А как насчёт более отдалённого прошлого? Если я вспоминаю что-то, пережитое вчера, то я воспроизвожу вчерашнее событие, возможно, следуя всем шагам его последовательности. Я сознаю последовательность, пока делаю это: сначала воспроизводится один шаг, затем, следуя определённому порядку, второй и так далее. Но помимо этой последовательности, которая, очевидно, принадлежит воспроизведению, поскольку оно является потоком переживания, воспроизведение приводит к презентации прошлого временного потока. И действительно возможно не только то, что отдельные шаги мнемически присутствующего события отклоняются от шагов прошлого события (шаги, принадлежащие последнему, не следовали так, как они теперь репрезентируются), но и то, что актуальный порядок последовательности был иным, чем тот, который мнемический порядок теперь считает бывшим. Поэтому здесь возможны ошибки; а именно, ошибки, которые происходят от воспроизведения как воспроизведения и не должны смешиваться с ошибками, которым также подвержено восприятие временных объектов (то есть трансцендентных объектов). Что это так и в каком смысле это так, уже упоминалось: если я изначально сознаю временную последовательность, нет сомнения, что временная последовательность имела место и имеет место. Но это не означает, что событие – объективное событие – действительно происходит в том смысле, в каком я его аппрегендирую. Отдельные аппрегензии могут быть ложными; то есть они могут быть аппрегензиями, которым не соответствует никакая реальность. И тогда, если объективная интенция, направленная на аппрегендированное, сохраняется (относительно его конституирующего содержания и его отношения к другим объектам), когда оно отодвигается назад во времени, ошибка проникает во всю временную аппрегензию появляющегося процесса. Но если мы ограничимся последовательностью презентирующих «содержаний» или даже последовательностью «явлений», остаётся в силе несомненная истина: процесс стал данным, и эта последовательность явлений произошла, даже если последовательность событий, которые мне в них являлись, возможно, не произошла.
Теперь вопрос в том, может ли эта эвиденция, относящаяся к временному сознанию, сохраняться в воспроизведении. Это возможно только через совпадение репродуктивного потока с ретенционным потоком. Если у меня есть последовательность двух тонов c, d, то, пока свежая память сохраняется, я могу повторить эту последовательность, даже адекватно повторить её в определённых отношениях. Я повторяю c, d внутренне, с сознанием, что c произошёл первым, а затем d. И пока эта повторённая последовательность «ещё жива», я могу действовать таким же образом снова и так далее. Конечно, таким образом я могу выйти за пределы изначального поля эвиденции. Мы также видим здесь, как воспоминания находят своё исполнение. Если я повторяю c, d, эта репродуктивная репрезентация последовательности находит своё исполнение в ещё живой предыдущей последовательности.
§ 23. Совпадение воспроизведённого теперь с прошлым. Различие между фантазией и воспоминанием.После того как мы разграничили репродуктивное сознание прошлого от изначального, возникает дальнейшая проблема. Когда я воспроизвожу услышанную мелодию, феноменальное теперь воспоминания репрезентирует прошлое: в фантазии, в воспоминании теперь звучит тон. Этот тон репродуцирует, скажем, первый тон мелодии, которая является прошлой мелодией. Сознание прошлого, данное вместе со вторым тоном, репрезентирует «только что прошлое», которое ранее было дано изначально, следовательно, прошлое «только что прошлое». Как же воспроизведённое теперь оказывается репрезентацией прошлого? Ведь воспроизведённое теперь непосредственно репрезентирует именно теперь. Как возникает отсылка к чему-то прошлому, что может быть дано изначально только в форме «только что прошлого»?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо заняться различием, на которое мы до сих пор лишь намекали, – а именно, различием между простой фантазией временно протяжённого объекта и воспоминанием. В простой фантазии не дано полагания воспроизведённого теперь и совпадения этого теперь с прошлым теперь. Воспоминание же полагает воспроизведённое и в этом полагании даёт ему позицию по отношению к актуально настоящему теперь и сфере изначального временного поля, к которому само воспоминание принадлежит. Только в изначальном временном сознании может быть установлено отношение между воспроизведённым теперь и прошлым. Репрезентационный поток – это поток фаз переживания, структурированный точно так же, как структурирован любой время-конституирующий поток, и поэтому сам являющийся время-конституирующим потоком. Здесь обнаруживаются все оттенки и модификации, конституирующие временную форму; и подобно тому, как имманентный тон конституируется в потоке тональных фаз, так единство репрезентации тона конституируется в потоке фаз репрезентации тона. Совершенно универсально, что в феноменологической рефлексии мы возвращаемся от всего, что в самом широком смысле является, представляется, мыслится и т. д., к потоку конституирующих фаз, подвергающихся имманентной объективации: а именно, объективации [превращающей их] в перцептивные явления (внешние восприятия), воспоминания, ожидания, желания и т. д. как единства, принадлежащие внутреннему сознанию. Таким образом, репрезентации всех видов, как потоки переживания, обладающие универсальной время-конституирующей формацией, также конституируют имманентный объект: «длящийся процесс репрезентации, протекающий так-то и так-то».
Но, с другой стороны, репрезентации обладают своеобразным свойством, что в самих себе и во всех своих фазах переживания они являются репрезентациями… в другом смысле, что у них есть второй и иной вид интенциональности, свойственный только им и не всем переживаниям. Теперь эта новая интенциональность имеет особенность, что по форме она является «отражением» [Gegenbild] интенциональности, конституирующей время; и так как она воспроизводит в каждом из своих элементов момент презентационного потока, а в своих элементах, взятых как целое, – целый презентационный поток, она производит репродуктивное сознание репрезентированного имманентного объекта. Таким образом, она конституирует нечто двойственное: во-первых, через свою форму как потока переживания она конституирует репрезентацию как имманентное единство; затем, поскольку моменты переживания, принадлежащие этому потоку, являются репродуктивными модификациями моментов, принадлежащих параллельному потоку (который в обычном случае состоит из нерепродуктивных моментов), и поскольку эти репродуктивные модификации включают интенциональность, поток соединяется в конституирующее целое, в котором я сознаю интенциональное единство: единство воспоминаемого.
§ 24. Протенции в воспоминании.Чтобы понять включение этой конституированной единственности опыта – «памяти» – в единый поток опыта, необходимо учесть следующее: каждое воспоминание содержит интенции ожидания, чье осуществление ведет к настоящему. Каждый процесс, изначально конституирующий свой объект, одушевлен протенциями, которые пустотно конституируют грядущее как грядущее, схватывают его и приводят к осуществлению. Однако процесс воспоминания не просто обновляет эти протенции в памяти. Они присутствуют не только в процессе схватывания грядущего – они уже схватили его. Они осуществились, и мы осознаем это в воспоминании. Осуществление в воспоминательном сознании есть повторное осуществление (именно в модификации, принадлежащей полаганию памяти).
И если изначальная протенция, принадлежащая восприятию события, была неопределенной и оставляла открытой возможность того, что вещи будут иными или их вовсе не будет, то в воспоминании мы имеем заранее установленное ожидание, которое не оставляет все это открытым – за исключением формы «незавершенного» воспоминания, обладающего иной структурой, нежели неопределенная изначальная протенция. И тем не менее, это также включено в воспоминание. Таким образом, здесь уже возникают трудности интенционального анализа – сначала для события, рассматриваемого отдельно, а затем, по-новому, для ожиданий, касающихся последовательности событий вплоть до настоящего: воспоминание – не ожидание, но у него есть горизонт, направленный в будущее, а именно – в будущее воспоминаемого; и этот горизонт фиксирован. По мере продвижения воспоминательного процесса этот горизонт раскрывается все новыми способами, становясь богаче и живее. И в этом процессе горизонт наполняется все новыми воспоминаемыми событиями. Те, что прежде лишь предуказывались, теперь квази-присутствуют – квази в модусе актуализирующего настоящего.
§ 25. Двойная интенциональность воспоминания.Если в связи с временным объектом мы отличаем содержание с его длительностью – которое может занимать разное место в контексте «того самого» времени – от его временной позиции, то в репродукции длящегося бытия мы имеем, помимо репродукции наполненной длительности, также интенции, касающиеся его позиции – и они необходимы. Длительность не может быть даже представлена, или, точнее, даже положена, без того, чтобы она не была положена во временном контексте, без присутствия интенций, направленных на временной контекст. Более того, необходимо, чтобы эти интенции имели форму либо интенций, направленных в прошлое, либо интенций, направленных в будущее.
Двойственности интенций – направленных на наполненную длительность и на место этой длительности во времени – соответствует двойное осуществление. Весь комплекс интенций, составляющий явление прошлого длящегося объекта, имеет свое возможное осуществление в системе явлений, принадлежащих тому же самому длящемуся объекту. Интенции, направленные на временной контекст, осуществляются посредством продуцирования наполненных связей вплоть до актуального настоящего.
Следовательно, в каждом повторном представлении мы должны различать между репродукцией сознания, в котором прошлый длящийся объект был дан (то есть был воспринят или каким-то образом изначально конституирован), и тем, что присоединяется к этой репродукции как конституирующее сознание «прошлого», «настоящего» (одновременного с актуальным теперь) или «будущего».
Является ли последнее также репродукцией? Этот вопрос может легко ввести нас в заблуждение. Естественно, воспроизводится целое – не только тогда-настоящее сознания с его потоком, но «имплицитно» весь поток сознания вплоть до живого настоящего. Это означает – и это фундаментальная часть априорной феноменологической генетики – что память течет непрерывно, поскольку жизнь сознания течет непрерывно и не просто складывается звено за звеном в цепь. Напротив, все новое воздействует на старое; направленная вперед интенция, принадлежащая старому, таким образом осуществляется и определяется, что придает репродукции определенную окраску. Здесь проявляется ретроактивный эффект, необходимый и априорный. Новое вновь указывает на новое, которое, появляясь, определяется и модифицирует репродуктивные возможности для старого, и так далее. Более того, ретроактивная сила простирается назад по цепи, поскольку репродуцированное прошлое несет характер прошлого и неопределенную интенцию, направленную на определенное местоположение во времени относительно теперь.
Таким образом, это не так, будто мы имеем простую цепь «ассоциированных» интенций, где одна вызывает в памяти другую, а та – следующую (в потоке); скорее, мы имеем одну интенцию, которая сама по себе является интенцией, направленной на ряд возможных осуществлений.
Но это неинтуитивная, «пустая» интенция. Ее объект – это объективный ряд событий во времени, и этот ряд есть смутное окружение того, что актуально воспоминается. Не является ли это универсальной характеристикой «окружения»: единая интенция, относящаяся к множеству взаимосвязанных объективностей и находящая свое осуществление в постепенной, отдельной и многообразной данности этих объективностей? Это также имеет место с пространственным фоном. И таким образом, каждая вещь в восприятии имеет свою обратную сторону как фон (ибо речь идет не о фоне внимания, а о апперцепции). Компонент «непрезентативного восприятия», который принадлежит каждому трансцендентному восприятию как существенная часть, есть «сложная» интенция, которая может осуществляться в связях определенного рода, в связях данных. Передний план – ничто без фона. Являющаяся сторона – ничто без неявляющейся.
То же самое в единстве временного сознания: репродуцированная длительность – это передний план; интенции, направленные на включение [длительности во время], делают осознаваемым фон, временной фон. И это определенным образом продолжается в конституции темпоральности самого длящегося объекта с его теперь, до и после. У нас есть аналогии: для пространственной вещи – ее включение в окружающее пространство и пространственный мир; с другой стороны, сама пространственная вещь с ее передним планом и фоном. Для временной вещи: ее включение во временную форму и временной мир; с другой стороны, сама временная вещь и ее изменяющаяся ориентация относительно живого теперь.
§ 26. Различия между памятью и ожиданием.Мы также должны исследовать, стоят ли память и ожидание на одном уровне. Интуитивная память предлагает мне живую репродукцию длящейся событийности, и только интенции, указывающие назад на то, что предшествовало событию, и вперед – вплоть до живого теперь, остаются неинтуитивными.
В интуитивном представлении будущего события я теперь интуитивно имею репродуктивный «образ» события, которое репродуктивно разворачивается. К этому образу прикреплены неопределенные интенции, направленные в будущее и в прошлое, то есть интенции, которые с самого начала события касаются его временного окружения, завершающегося в живом теперь. В этом отношении интуиция, принадлежащая ожиданию, есть перевернутая интуиция памяти, ибо в случае памяти интенции, направленные на теперь, не «предшествуют» событию, а следуют за ним. Как пустые интенции, направленные на окружение, они лежат «в противоположном направлении».
Теперь что касается способа, которым дано само событие. Существует ли принципиальная разница в том, что в памяти содержание события определено? Но память также может быть интуитивной и при этом не очень определенной, поскольку многие ее интуитивные компоненты вовсе не имеют характера актуальной памяти. В случае «совершенной» памяти, конечно, все вплоть до мельчайших деталей было бы ясным и характеризовалось бы как память. Но идеально это также возможно в случае ожидания. В целом ожидание оставляет многое открытым, и эта открытость вновь является характеристикой рассматриваемых компонентов. Однако в принципе conceivable (представимо) пророческое сознание (сознание, выдающее себя за пророческое) – то есть сознание, для которого каждая характеристика, принадлежащая ожиданию грядущего, находится в поле зрения: как, например, когда у нас есть точно определенный план и, интуитивно представляя запланированное, мы принимаем его, так сказать, целиком как будущую реальность. Тем не менее, в интуитивном предвосхищении будущего также будет много незначительного, что заполняет конкретный образ, но во многих отношениях может существовать иначе, чем предлагает образ: изначально оно характеризуется как открытое.
Но существуют принципиальные различия в способе осуществления. Интенции, направленные в прошлое, необходимо осуществляются путем выявления контекстов, принадлежащих интуитивным репродукциям. Репродукция прошлого события с точки зрения его валидности (во внутреннем сознании) допускает завершение и подтверждение своих мнемических неопределенностей только путем превращения в репродукцию, в которой каждый компонент характеризуется как репродуктивный. Здесь речь идет о таких вопросах, как: Действительно ли я видел это? Действительно ли я воспринимал это? Действительно ли у меня было это явление с именно таким содержанием? В то же время все это должно быть включено в связь подобных интуиций, простирающихся вплоть до теперь.



