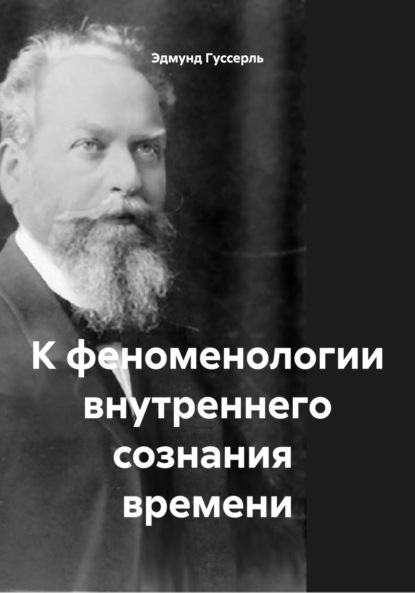
Полная версия:
К феноменологии внутреннего сознания времени
Примеры и параллели.
– Мелодия: аналогичный пример использует Анри Бергсон в Творческой эволюции (1907), критикуя «кинематографический» подход к времени.
– Парадокс прошлого: ср. с дискуссией о «присутствии отсутствующего» у Мерло-Понти (Феноменология восприятия, 1945).
– Критика психологизма: ср. с гуссерлевской критикой в Логических исследованиях (1900–1901).
Важно: Гуссерль показывает, что Брентано, несмотря на прорыв в понимании времени как активно конституируемого, не преодолел натуралистическую иллюзию. Это подчёркивает необходимость феноменологической редукции для анализа времени как имманентной структуры сознания.
Второй раздел. Анализ сознания времени.
§ 7. Толкование схватывания временных объектов как мгновенного схватывания и как длящегося акта.
Идея, восходящая к Гербарту, подхваченная Лотце и игравшая важную роль в последующий период, служит движущим мотивом в теории Брентано: а именно, идея о том, что для схватывания последовательности представлений (например, a и b) необходимо, чтобы эти представления были абсолютно одновременными объектами познающего акта, который соотносит их и охватывает совершенно нераздельно в едином и неделимом действии. Все представления пути, прохождения, расстояния – короче говоря, все представления, содержащие сравнение нескольких элементов и выражающие отношение между ними, – могут быть поняты только как продукты познающего акта, который охватывает свои объекты вне времени. Они были бы невозможны, если бы сам акт представления полностью растворялся во временной последовательности.
Кажется очевидным и совершенно неизбежным допущение этой концепции, что интуиция временного протяжения происходит в "теперь", в одной временной точке. Просто кажется трюизмом, что всякое сознание, направленное на целое, на множество различимых моментов (а значит, всякое сознание отношения и связи), охватывает свой объект в неделимой временной точке. Везде, где сознание направлено на целое, части которого последовательны, интуитивное сознание этого целого возможно только в том случае, если части, в форме представителей, соединяются в единстве мгновенной интуиции.
В. Штерн возражал против этого «догмата моментальности целого сознания» (как он его называет). Существуют случаи, когда схватывание происходит только на основе временно протяженного содержания сознания, то есть случаи, когда схватывание растянуто на отрезок времени (так называемое «время присутствия»). Так, например, дискретная последовательность может удерживаться вместе без ущерба для неодновременности её членов благодаря связующему единству сознания, единому акту схватывания. То, что несколько последовательных тонов образуют мелодию, возможно только потому, что последовательность психических событий объединяется «сразу» в целостное образование. Они присутствуют в сознании последовательно, но попадают в один и тот же целостный акт. Очевидно, мы не имеем все тона сразу, и мы не слышим мелодию благодаря тому, что предыдущие тона продолжают длиться, пока звучит последний. Скорее, тона образуют последовательное единство с общим эффектом – формой схватывания. Естественно, последняя завершается только с последним тоном.
Таким образом, существует восприятие единств, следующих друг за другом во времени, так же как и восприятие сосуществующих единств; а поскольку это так, существует и непосредственное схватывание тождества, равенства, сходства и различия. Нет необходимости в искусственном допущении, что сравнение всегда происходит потому, что образ памяти первого тона существует одновременно со вторым тоном; скорее, всё содержание сознания, разворачивающееся во «времени присутствия», становится в равной мере основой для возникающих схватываний равенства и различия.
То, что мешает прояснению проблем, обсуждаемых в этих утверждениях и во всей связанной с ними дискуссии, – это отсутствие абсолютно необходимых разграничений, которые мы уже установили в связи с Брентано. Теперь остается задаться вопросом: как следует понимать схватывание трансцендентных временных объектов, протяженных на длительность, непрерывно заполняющих её одинаково (как неизменные вещи) или заполняющих её в постоянном изменении (как, например, в случае физических процессов, движения, изменения и т. п.)? Объекты такого рода конституируются в множественности имманентных данных и схватываний, которые сами протекают как последовательность. Возможно ли объединить эти последовательно протекающие данные представления в одном моменте "теперь"? В таком случае возникает совершенно новый вопрос: как, помимо «временных объектов» (имманентных и трансцендентных), конституируется само время – длительность и последовательность объектов?
Эти различные линии описания (лишь намеченные здесь и требующие дальнейшего различения) необходимо, конечно, держать в уме во время анализа, хотя все эти вопросы тесно связаны между собой, и ни один из них не может быть решен в отрыве от других.
Очевидно, что восприятие временного объекта само обладает временностью, что восприятие длительности само предполагает длительность восприятия, что восприятие любой временной формы само имеет свою временную форму. Если отвлечься от всех трансценденций, у восприятия во всех его феноменологических составляющих остается феноменологическая временность, принадлежащая его нередуцируемой сущности.
Поскольку объективная временность всегда конституируется феноменологически и предстает перед нами в явлении как объективность или как момент объективности только через эту конституцию, феноменологический анализ времени не может прояснить конституцию времени без рассмотрения конституции временных объектов. Под временными объектами в специфическом смысле мы понимаем объекты, которые не только являются единствами во времени, но и содержат временную протяженность в самих себе.
Когда звучит тон, мое объективирующее схватывание может сделать сам тон, который длится и затухает, объектом, но не делает длительность тона или тон в его длительности объектом. Последнее – тон в его длительности – является временным объектом. То же самое относится к мелодии, к любому изменению вообще, но также и к любому постоянству без изменения, рассматриваемому как таковое.
Возьмем пример мелодии или связной части мелодии. Сначала дело кажется очень простым: мы слышим мелодию, то есть воспринимаем её, ведь слышание – это и есть восприятие. Однако первый тон звучит, затем второй, потом третий и так далее. Разве мы не должны сказать: когда звучит второй тон, я слышу его, но уже не слышу первый тон и т. д.? В действительности, значит, я слышу не мелодию, а лишь отдельный настоящий тон. Что прошедшая часть мелодии является для меня чем-то объективным, я обязан – как можно склоняться к мысли – памяти; а то, что я не предполагаю с появлением текущего тона, будто это всё, я обязан предвосхищающему ожиданию.
Но мы не можем удовлетвориться этим объяснением, потому что всё сказанное применимо и к отдельному тону. Каждый тон сам обладает временной протяженностью. Когда он начинает звучать, я слышу его как "теперь"; но пока он продолжает звучать, у него появляется всё новое "теперь", и непосредственно предшествующее "теперь" превращается в прошлое. Следовательно, в любой момент я слышу только актуально настоящую фазу тона, а объективность всего длящегося тона конституируется в акт-континууме, который частично является памятью, в наименьшей точечной части – восприятием, а в дальнейшей части – ожиданием.
Это, кажется, возвращает нас к теории Брентано. Здесь, следовательно, должен начаться более глубокий анализ.
§ 8. Имманентные временные объекты и их модусы явленностиТеперь мы исключаем все трансцендентные аппрегензии и полагания и рассматриваем тон исключительно как гилетический данность. Он начинается и заканчивается; и после его завершения вся его длительностная целостность – единство всего процесса, в котором он начинается и заканчивается, – «отступает» во всё более отдалённое прошлое. В этом погружении назад я всё ещё «удерживаю» его, сохраняю в «ретенции». И пока ретенция длится, тон обладает своей собственной темпоральностью; он остаётся тем же самым, его длительность неизменна. Я могу направить своё внимание на то, как он дан. Я сознаю тон и заполняемую им длительность в непрерывности «модусов», в «непрерывном потоке». Одна точка, одна фаза этого потока называется «сознанием начинающегося тона»; и в этой фазе я сознаю первую временную точку длительности тона в модусе «теперь». Тон дан – то есть я сознаю его как «теперь». Но я сознаю его как «теперь» «до тех пор», пока любая из его фаз интендируется как «теперь». Однако если какая-либо временная фаза (соответствующая временной точке длительности тона) является актуально настоящим «теперь» (за исключением начальной фазы), то я сознаю непрерывность фаз как «непосредственно прошедших» и весь отрезок временной длительности от начальной точки до точки «теперь» как истекший. Остающаяся часть длительности, однако, ещё не осознаётся. Когда достигается конечная точка, я сознаю саму эту точку как «теперь» и всю длительность как истекшую (или сознаю её как истекшую в начальной точке нового временного отрезка, который уже не является тональным).
«На протяжении» всего этого потока сознания один и тот же тон интендируется как длящийся, как теперь длящийся. «До этого» (если он не был ожидаем) он не интендируется. «После» он «ещё» какое-то время интендируется в «ретенции» как бывший; он может быть удержан и зафиксирован в нашем внимании. Вся длительность тона или «тон» в своей протяжённости предстаёт передо мной как нечто мёртвое, так сказать – больше не порождаемое жизненно, образование, больше не одушевлённое порождающей точкой «теперь», но непрерывно модифицируемое и погружающееся в «пустоту». Модификация всего отрезка, таким образом, аналогична или сущностно идентична той модификации, которую претерпевает истекшая часть длительности при переходе сознания к новым актам порождения, пока тон актуально присутствует.
То, что мы описали здесь, – это способ, каким объект в имманентном времени «является» в непрерывном потоке, способ, каким он «дан». Описание этого способа не означает описания самой являющейся временной длительности, ибо это тот же самый тон с принадлежащей ему длительностью, который, собственно, не описывался, а предполагался в описании. Та же самая длительность есть актуально строящая себя настоящая длительность, а затем – прошедшая, «истекшая» длительность, длительность, которая всё ещё интендируется или воспроизводится в воспоминании «как если бы» она была новой. Это тот же самый тон, который теперь звучит, о котором в «последующем» потоке сознания говорится, что он был, что его длительность истекла. Точки временной длительности отступают для моего сознания аналогично тому, как отступают точки объекта, неподвижного в пространстве, когда я удаляю «себя» от объекта. Объект сохраняет своё место, как и тон сохраняет своё время. Каждая временная точка фиксирована, но для сознания она улетает вдаль. Расстояние от порождающего «теперь» становится всё больше и больше. Сам тон остаётся тем же самым, но тон «в способе», каким он является, непрерывно иной.
§ 9. Сознание явлений имманентных объектовПри ближайшем рассмотрении мы можем выделить здесь и другие линии описания.
1. Мы можем высказывать очевидные утверждения об имманентном объекте самом по себе: что он теперь длится; что определённая часть длительности истекла; что точка длительности тона, схваченная в «теперь» (с её тональным содержанием, конечно), непрерывно погружается в прошлое и что всё новая точка длительности вступает в «теперь» или есть «теперь»; что истекшая длительность удаляется от актуально настоящей точки «теперь», которая постоянно чем-то заполнена, и отступает во всё более «далёкое» прошлое, и тому подобное.
2. Но мы можем также говорить о том, как мы «сознаём» все эти различия, относящиеся к «явленности» имманентного тона и его длительностного содержания. Мы говорим о восприятии в связи с длительностью тона, достигающей актуально настоящего «теперь», и утверждаем, что тон, длящийся тон, воспринимается, и что в каждый данный момент из протяжённой длительности тона только точка длительности, характеризующаяся как «теперь», воспринимается в полном собственном смысле. Мы говорим об истекшем отрезке, что он интендируется в ретенциях; причём части длительности или фазы длительности, лежащие ближе всего к актуально настоящей точке «теперь» (которые не могут быть резко отграничены), интендируются с убывающей ясностью. Более удалённые фазы – те, что лежат дальше в прошлом, – интендируются совершенно смутно и пусто. И то же самое происходит после того, как вся длительность истекла: то, что лежит ближе всего к актуально настоящему «теперь», в зависимости от его удалённости, может сохранять немного ясности; целое [затем] исчезает в смутность, в пустое ретенциональное сознание и, наконец, исчезает вовсе (если позволительно так утверждать), как только ретенция прекращается.
В сфере ясности мы находим бо́льшую отчётливость и разделённость (тем бо́льшую, чем ближе эта сфера к актуально настоящему «теперь»). Но чем дальше мы удаляемся от «теперь», тем сильнее проявляется слияние и сжатие. Рефлексивное проникновение в единство многочленного процесса позволяет нам наблюдать, что членистая часть процесса «сжимается» по мере погружения в прошлое – своего рода временная перспектива (в рамках изначального временного явления) как аналог пространственной перспективы. При отступлении в прошлое временной объект сжимается и при этом также становится смутным.
Теперь речь идёт о том, чтобы ближе исследовать, что мы можем здесь обнаружить и описать как феномен время-конституирующего сознания, сознания, в котором конституируются временные объекты с их временными определениями. Мы различаем длящийся имманентный объект и объект в его способе явленности, объект, интендируемый как актуально настоящий или как прошедший. Всякое временное бытие «является» в некотором непрерывно изменяющемся модусе течения, и в этом изменении «объект в его модусе течения» всегда и постоянно есть иной объект. И тем не менее мы продолжаем говорить, что объект и каждая точка его времени и само это время суть одно и то же. Мы не сможем назвать это явление – «объект в его модусе течения» – «сознанием» (так же как не назовём «сознанием» пространственный феномен, тело в его способе явленности с той или иной стороны, вблизи или вдали). «Сознание», «переживание» относится к своему объекту посредством явления, в котором как раз «объект в его способе явленности» ["Objekt im Wie”] предстаёт перед нами. Очевидно, мы должны признать, что наши отсылки к интенциональности неоднозначны – в зависимости от того, имеем ли мы в виду отношение явления к являющемуся или отношение сознания, с одной стороны, к «являющемуся в его способе явленности» и, с другой стороны, к являющемуся просто.
§ 10. Континуумы феноменов течения. Диаграмма времениПоэтому мы предпочли бы избегать использования слова «явления» для феноменов, конституирующих имманентные временные объекты; ибо эти феномены сами суть имманентные объекты и являются «явлениями» в совершенно ином смысле. Мы говорим здесь о «феноменах течения» или, ещё лучше, о «модусах временной ориентации»; а в отношении самих имманентных объектов мы говорим об их «характерах течения» (например, теперь, прошлое). Мы знаем, что феномен течения есть континуум постоянных изменений. Этот континуум образует неразделимое единство, неразложимое на протяжённые отрезки, которые могли бы существовать сами по себе, и неразложимое на фазы, которые могли бы существовать сами по себе, на точки континуума. Части, которые мы выделяем абстракцией, могут существовать только в целом течения; и то же самое относится к фазам, точкам, принадлежащим континууму течения. Мы можем также сказать об этом континууме с очевидностью, что в определённом смысле он неизменен – а именно, в отношении своей формы. Немыслимо, чтобы континуум фаз содержал один и тот же модус фазы дважды или даже был бы протяжён над целым составным отрезком. Подобно тому как каждая точка времени (и каждый отрезок времени) «индивидуально», так сказать, отличается от любой другой и ни одна из них не может повториться, так и ни один модус течения не может повториться. Однако здесь нам ещё предстоит провести дальнейшие различения и дать более ясные описания.
Прежде всего, мы подчеркиваем, что режимы течения имманентного временного объекта имеют начало, исходную точку, так сказать. Это режим течения,
AE – Серия точечных "теперь".
AA' – Погружение в прошлое.
EA' – Континуум фаз ("теперь"-точка с горизонтом прошлого).
E – Серия "теперь", возможно, заполненных другими объектами.
с которого имманентный объект начинает существовать, характеризуемый как "теперь".
В устойчивой прогрессии режимов течения мы обнаруживаем замечательное обстоятельство: каждая последующая фаза течения сама является континуумом – непрерывно расширяющимся континуумом прошлого. Континууму режимов течения длительности объекта мы противопоставляем континуум режимов течения, принадлежащих каждой точке этой длительности. Этот второй континуум, очевидно, включен в первый – континуум режимов течения длительности объекта. Таким образом, континуум течения длящегося объекта – это континуум, фазы которого суть континуумы режимов течения, принадлежащих различным временным точкам длительности объекта.
Если мы движемся вдоль конкретного континуума, мы продвигаемся вперед в процессе постоянных модификаций, и в этом процессе режим течения – то есть континуум течения рассматриваемых временных точек – непрерывно изменяется. Поскольку новое "теперь" постоянно появляется на сцене, "теперь" превращается в прошлое, и по мере этого весь континуум прошлого, принадлежащий предыдущей точке, равномерно "опускается" в глубины прошлого.
На нашей диаграмме непрерывный ряд ординат иллюстрирует режимы течения длящегося объекта. Они растут от A (одной точки) до определенного протяжения, имеющего последнее "теперь" в качестве конечной точки. Затем начинается серия режимов течения, которые больше не включают "теперь" (то есть "теперь", принадлежащее этой длительности); длительность больше не является актуально присутствующей, а становится прошлым, непрерывно погружаясь глубже в него. Таким образом, диаграмма дает полную картину двойного континуума режимов течения.
§11. Первичное впечатление и ретенционная модификация."Исходная точка", с которой начинается "производство" длящегося объекта, – это первичное впечатление. Это сознание находится в состоянии постоянного изменения: "теперь" тона, присутствующее "лично", непрерывно превращается (то есть в сознании) в нечто, что было; новое "теперь" тона постоянно сменяет то, что перешло в модификацию.
Но когда сознание "теперь"-тона, первичное впечатление, переходит в ретенцию, сама эта ретенция, в свою очередь, является "теперь" – чем-то актуально существующим. Будучи актуально присутствующей (но не актуально присутствующим тоном), она является ретенцией прошедшего тона. Луч внимания может быть направлен на "теперь" – на ретенцию; но он также может быть направлен на то, что ретенционно интендируется – на прошлый тон.
Однако каждое актуальное "теперь" сознания подчиняется закону модификации. Оно непрерывно превращается в ретенцию ретенции. Таким образом, возникает фиксированный континуум ретенций, где каждая последующая точка является ретенцией для каждой предыдущей. И каждая ретенция сама уже является континуумом.
Тон начинается и "он" продолжается. "Теперь"-тон превращается в "бывший" тон; импрессиональное сознание, непрерывно текущее, переходит во все новые ретенционные сознания. Двигаясь вдоль потока, мы имеем непрерывный ряд ретенций, относящихся к начальной точке. Однако каждая более ранняя точка этого ряда, в свою очередь, является "теперь" в смысле ретенции. Таким образом, к каждой из этих ретенций прикрепляется континуум ретенционных модификаций, и этот континуум сам является актуально присутствующей точкой, которая ретенционно оттеняется.
Это не приводит к простому бесконечному регрессу, поскольку каждая ретенция сама по себе есть непрерывная модификация, которая несет в себе, так сказать, наследие прошлого в форме ряда оттенений. Однако здесь не происходит простой замены каждой предыдущей ретенции новой, даже если это происходит непрерывно. Скорее, каждая последующая ретенция – это не только постоянная модификация, возникшая из первичного впечатления, но и постоянная модификация всех предыдущих непрерывных модификаций той же исходной точки.
До сих пор мы рассматривали главным образом восприятие или изначальную конституцию временных объектов и пытались аналитически понять данное в них временное сознание. Однако осознание временности достигается не только в этой форме.
Когда временной объект завершился, когда актуальная длительность окончена, сознание теперь-прошедшего объекта отнюдь не исчезает вместе с объектом, хотя оно больше не функционирует как перцептивное сознание или, точнее, как импрессиональное сознание. (Как и прежде, мы рассматриваем здесь имманентные объекты, которые, строго говоря, не конституируются в "восприятии".)
Первичная память, или, как мы сказали, ретенция, непрерывно присоединяется к "впечатлению". По сути, мы уже проанализировали это сознание в ранее рассмотренном случае. Ведь континуум фаз, присоединяющийся к актуальному "теперь", был не чем иным, как такой ретенцией или континуумом ретенций.
В случае восприятия временного объекта (неважно, имманентного или трансцендентного, в данном рассмотрении это не имеет значения), восприятие в каждый момент завершается схватыванием-как-теперь, восприятием в смысле полагания-как-теперь. Пока воспринимается движение, происходит моментальное схватывание-как-теперь, и в этом схватывании конституируется актуально присутствующая фаза самого движения. Но это схватывание-теперь – это, так сказать, голова, прикрепленная к хвосту кометы ретенций, относящихся к предыдущим точкам "теперь" движения.
Однако если восприятие больше не происходит, если мы больше не видим движение, или, если речь идет о мелодии, мелодия завершилась и наступила тишина, то конечная фаза восприятия сменяется не новой фазой восприятия, а просто фазой свежей памяти, которая, в свою очередь, сменяется другой фазой свежей памяти, и так далее. Таким образом, происходит постоянное оттеснение в прошлое. Один и тот же непрерывный комплекс постоянно подвергается модификации, пока не исчезает, поскольку ослабление, в конце концов переходящее в незаметность, идет рука об руку с модификацией.
Изначальное временное поле, очевидно, ограничено, как и в случае восприятия. Более того, можно даже утверждать, что временное поле всегда имеет одинаковую протяженность. Оно движется, так сказать, над воспринятым и свежезапомненным движением и его объективным временем так же, как зрительное поле движется над объективным пространством.
§12. Ретенция как уникальный вид интенциональности .Нам еще предстоит более точно обсудить, какого рода модификацию мы обозначили как ретенционную.
Говорят о затухании, исчезновении и т. д. сенсорных содержаний, когда собственно восприятие переходит в ретенцию. Уже из наших предыдущих объяснений ясно, что ретенционные "содержания" вовсе не являются содержаниями в исходном смысле.
Когда тон затухает, он сначала ощущается с особой полнотой (интенсивностью), а затем происходит быстрое ослабление интенсивности. Тон еще есть, еще ощущается, но лишь в виде отзвука. Это подлинное ощущение тона следует отличать от тонального момента в ретенции. Ретенционный тон – это не настоящий тон, а именно тон, "первично вспоминаемый" в "теперь": он не дан в ретенционном сознании как наличный. Но и тональный момент, принадлежащий этому сознанию, не может быть другим, реально наличным тоном – он не может быть даже очень слабым тоном того же качества (например, эхом).
Настоящий тон может "напоминать" о прошлом тоне, иллюстрировать его, образно представлять его, но это уже предполагает другую репрезентацию прошлого. Интуиция прошлого сама по себе не может быть образным представлением. Это оригинальное сознание.
Конечно, мы не можем отрицать существование эха. Но когда мы распознаем и различаем его, легко подтвердить, что оно явно не принадлежит ретенции как таковой, а относится к восприятию. Отзвук скрипичного тона – это именно слабый настоящий скрипичный тон и абсолютно отличается от ретенции только что прозвучавшего громкого тона. Эхо и послеобразы любого рода, оставленные более сильными сенсорными данными, не только не обязательно принадлежат к сущности ретенции, но и вообще не имеют к ней никакого отношения.
Однако к сущности интуиции времени, безусловно, относится то, что в каждой точке его длительности (которую мы можем рефлексивно сделать объектом) есть сознание только что бывшего, а не просто сознание точки "теперь" объекта, являющегося как длящийся. И это только что бывшее интендируется в этом сознании в соответствующем континууме, и в каждой фазе оно интендируется в определенном "способе явления" с различиями "содержания" и "аппрегензии".



