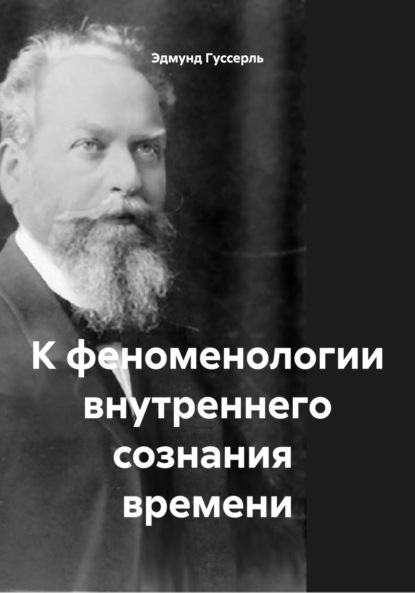
Полная версия:
К феноменологии внутреннего сознания времени
Пример из науки: подобно тому как теория относительности Эйнштейна показала относительность одновременности в физике, Гуссерль демонстрирует, что даже «объективное» время коренится в субъективных структурах сознания. Однако, в отличие от физикализма, он не редуцирует время к внешним измерениям, а раскрывает его как имманентную форму переживания.
Таким образом, Гуссерль закладывает основы феноменологии времени, которая повлияла на Хайдеггера («Бытие и время»), Мерло-Понти («Феноменология восприятия») и современные когнитивные науки. Его анализ показывает, что время – не просто объективная величина, а фундаментальный модус сознания, без которого невозможны ни восприятие, ни память, ни само мышление.
Источники и параллели:
– Августин. «Исповедь», XI – парадокс времени.
– Брентано (лекции о времени) – психологический подход, критикуемый Гуссерлем.
– Кант. «Критика чистого разума» – время как априорная форма созерцания.
– Хайдеггер. «Бытие и время» – развитие гуссерлевской проблематики в онтологическом ключе.
Гуссерль подчёркивает, что феноменология времени – не абстрактная теория, а исследование как время становится значимым для нас, что делает его работу ключевой для понимания связи между субъективностью и объективностью.
Первый раздел. Теория происхождения времени у Брентано.
§ 3. Первоначальные ассоциации
Теперь мы попытаемся подступиться к поставленным проблемам, связав их с теорией происхождения времени у Брентано. Брентано считает, что нашёл решение в первоначальных ассоциациях – в «возникновении непосредственных представлений памяти, то есть тех представлений, которые, согласно неизменному закону, присоединяются без какого-либо посредства к актуальным перцептивным представлениям».
Когда мы видим, слышим или иным образом воспринимаем что-либо, воспринятое всегда остаётся в нашем сознании на некоторое время, но не без изменений. Помимо прочих изменений (например, в интенсивности или полноте, которые происходят в большей или меньшей степени), мы неизменно обнаруживаем ещё одно, совершенно особое изменение: а именно, то, что остающееся в сознании предстаёт перед нами как более или менее прошлое, как бы отодвинутое во времени.
Например, когда звучит мелодия, отдельный тон не исчезает полностью с прекращением раздражения или вызванного им нервного движения. Когда звучит новый тон, предыдущий не пропадает бесследно. Если бы это было так, мы были бы совершенно неспособны уловить отношения между последовательными тонами: в каждый момент у нас был бы лишь один тон или, возможно, пустая пауза между звучанием двух тонов, но никогда – представление мелодии.
Однако одного лишь пребывания тональных представлений в сознании недостаточно. Если бы они оставались неизменными, вместо мелодии мы имели бы аккорд из одновременных тонов или, скорее, нестройное нагромождение звуков, будто мы разом ударили по всем ранее звучавшим нотам. Только благодаря особому изменению, благодаря тому, что каждая тональная ощущение после исчезновения вызвавшего её раздражителя пробуждает в себе сходное представление, снабжённое временной определённостью, и только потому, что эта временная определённость непрерывно меняется, может возникнуть представление мелодии, в которой отдельные тона занимают свои определённые места и следуют в заданном темпе.
Таким образом, существует всеобщий закон: к каждому данному представлению природой прикреплён непрерывный ряд представлений. Каждое из них воспроизводит содержание предыдущего, но так, что всегда добавляет к новому представлению момент прошлого.
Здесь фантазия проявляет себя как особо продуктивная. Это единственный случай, когда фантазия создаёт подлинно новый момент представления – временной момент. Тем самым мы обнаруживаем происхождение представления времени в сфере фантазии. Психологи до Брентано тщетно пытались найти подлинный источник этого представления. Тщетность их поисков объяснялась естественной, но роковой путаницей между субъективным и объективным временем, которая вводила исследователей в заблуждение и полностью закрывала от них реальную проблему.
Многие полагают, что вопрос о происхождении понятия времени не требует иного ответа, чем вопрос о происхождении наших понятий цвета, звука и т. п. Подобно тому, как мы ощущаем цвет, мы якобы ощущаем и длительность цвета; подобно качеству и интенсивности, временная длительность тоже является имманентным моментом ощущения. Внешний раздражитель возбуждает качество через форму физических процессов, интенсивность – через свою кинетическую энергию, а субъективно ощущаемую длительность – через своё продолжение. Но это – явная ошибка. То, что раздражитель длится, ещё не означает, что ощущение воспринимается как длящееся; это означает лишь, что ощущение тоже длится. Длительность ощущения и ощущение длительности – две совершенно разные вещи. То же самое относится и к последовательности: последовательность ощущений и ощущение последовательности – не одно и то же.
Разумеется, то же самое возражение следует выдвинуть против тех, кто хочет свести представление длительности и последовательности к факту длительности и последовательности психических актов. Однако мы проводим опровержение конкретно на примере ощущений.
Вполне мыслимо, что наши ощущения могли бы длиться или сменять друг друга, а мы бы ничего об этом не знали, поскольку наши представления не несли бы в себе никакой временной определённости. Если рассмотреть случай последовательности, допустив, что ощущения исчезают вместе с вызывающими их раздражителями, у нас была бы последовательность ощущений без малейшего намёка на временной поток. С появлением нового ощущения у нас не оставалось бы никакого воспоминания о предыдущих; в каждый момент мы осознавали бы лишь только что возникшее ощущение и ничего более.
Но даже сохранение уже возникших ощущений ещё не дало бы нам представления последовательности. Если бы в случае последовательности тонов предыдущие тоны сохранялись в неизменном виде, в то время как новые продолжали бы звучать, в нашем представлении возникла бы одновременная совокупность тонов, но не их последовательность. Не было бы никакой разницы между этим случаем и тем, когда все эти тоны звучат разом. Или другой пример: если бы в случае движения движущееся тело удерживалось в сознании неизменным в каждой из своих последовательных позиций, пройденное им пространство казалось бы нам сплошь заполненным, но у нас не было бы представления о движении.
Представление последовательности возникает только в том случае, если предыдущее ощущение не сохраняется в сознании неизменным, а подвергается первоначальной модификации – то есть непрерывно изменяется от момента к моменту. При переходе в фантазию ощущение приобретает непрерывно меняющийся временной характер: содержание предстаёт как всё более отодвигающееся в прошлое.
Но эта модификация уже не относится к сфере ощущения; она не порождается раздражителем. Раздражитель создаёт настоящее сенсорное содержание. Если раздражитель исчезает, исчезает и ощущение. Однако затем само ощущение становится продуктивным: оно порождает фантазийное представление, сходное (или почти сходное) по содержанию, но обогащённое временным характером. Это представление, в свою очередь, пробуждает новое, непрерывно с ним связанное, и так далее. Брентано называет это непрерывное присоединение временно модифицированного представления к данному представлению «первоначальной ассоциацией».
Вследствие своей теории Брентано приходит к отрицанию восприятия последовательности и изменения. Нам кажется, будто мы слышим мелодию, а значит, всё ещё слышим только что прошедшее, но это иллюзия, проистекающая из живости первоначальной ассоциации.
§ 4. Приобретение будущего и бесконечного времени.
Интуиция времени, возникающая посредством оригинальной ассоциации, ещё не является интуицией бесконечного времени. Она претерпевает дальнейшее развитие, и не только в отношении прошлого: она обретает совершенно новую ветвь через добавление будущего. На основе появления мгновенной памяти фантазия формирует представления о будущем в процессе, аналогичном тому, посредством которого, при соответствующих обстоятельствах, мы приходим к представлениям определённых новых видов цветов и звуков, следуя известным отношениям и формам. В фантазии мы способны транспонировать в другие регистры мелодию, которую слышали в определённой тональности и на основе совершенно определённого звукового вида. При такой транспозиции вполне может случиться, что, исходя из знакомых тонов, мы придём к тонам, которые никогда прежде не слышали. Подобным же образом фантазия формирует – в ожидании – представление о будущем из прошлого. Ошибочно полагать, что фантазия не способна предложить ничего нового, что она исчерпывается повторением моментов, уже данных в восприятии. Наконец, что касается полного временного представления – представления бесконечного времени – оно в той же мере является формированием концептуального представления, как и бесконечный числовой ряд, бесконечное пространство и тому подобное.
§ 5. Модификация представлений посредством временных характеристик.
Согласно Брентано, мы должны отметить ещё одну особенно важную особенность представлений времени. Временные виды прошлого и будущего обладают той особенностью, что они не определяют элементы чувственных представлений, с которыми сочетаются, как это делают другие накладывающиеся модусы, а, напротив, изменяют их. Более громкий тон "до" – всё же тон "до", равно как и более тихий тон "до". С другой стороны, тон "до", который "был", – это уже не тон "до", красное, которое "было", – это не красное. Временные определения не определяют: они существенно изменяют, точно так же, как определения «представленное», «желанное» и тому подобные. Представленный талер, возможный талер – это не талер. Лишь определение «теперь» составляет исключение. "А", которое существует теперь, – это, безусловно, актуальное "А". Настоящее не изменяет, но, с другой стороны, и не определяет. Если я добавляю «теперь» к представлению о человеке, человек не приобретает тем самым никакой новой характеристики, равно как и не обозначается никакая характеристика в нём. То, что восприятие представляет нечто как теперь, не добавляет ничего к качеству, интенсивности и пространственному определению представляемого. Согласно Брентано, модифицирующие временные предикаты ирреальны; лишь определение «теперь» реально. Примечательно здесь то, что ирреальные временные определения могут принадлежать к непрерывному ряду вместе с единственным действительно реальным определением, к которому ирреальные определения присоединяются в бесконечно малых различиях. Реальное «теперь» становится ирреальным снова и снова.
Если спросить, как реальное может превращаться в ирреальное посредством наложения модифицирующих временных определений, то нельзя дать иного ответа, кроме следующего: временные определения всякого рода присоединяются определённым образом и как необходимое следствие ко всякому возникновению и исчезновению, происходящему в настоящем. Ибо совершенно очевидно и ясно, что всё, что есть, вследствие того, что оно есть, будет тем, что "было"; и что, с точки зрения будущего, всё, что есть, вследствие того, что оно есть, есть то, что "было".
§ 6. Критика.
Если мы теперь обратимся к критике изложенной теории, то должны прежде всего спросить: что она делает и что она намерена делать? Очевидно, она не движется в той сфере, которую мы признали необходимой для феноменологического анализа временного сознания: она работает с трансцендентными предпосылками, с существующими временными объектами, которые оказывают на нас «стимулы» и «вызывают» в нас ощущения, и тому подобное. Таким образом, она предстаёт как теория психологического происхождения представления времени. Но она также содержит фрагменты эпистемологического рассмотрения условий возможности сознания объективной временности – сознания, которое само появляется и должно быть способным появляться как временное. К этому можно добавить обсуждения особенностей временных предикатов, которые должны стоять в отношении к психологическим и феноменологическим предикатам – отношениям, которые, однако, не исследуются дальше.
Брентано говорит о законе оригинальной ассоциации, согласно которому представления мгновенной памяти присоединяются к восприятиям момента. Брентано, очевидно, имеет в виду психологический закон, управляющий новым образованием психических переживаний на основе данных психических переживаний. Эти переживания психические, они объективированы, они сами имеют своё время, и для Брентано речь идёт об их генезисе и развитии. Всё это принадлежит к области психологии и не интересует нас здесь. Однако в этих рассуждениях скрыто феноменологическое ядро, и последующие утверждения предназначены для ограничения лишь этим ядром.
Длительность, последовательность, изменения появляются. Что подразумевается под этим появлением? В последовательности, например, появляется «теперь» и, в соединении с ним, «прошлое». Единство сознания, которое интенционально охватывает настоящее и прошлое, является феноменологическим данным. Теперь вопрос в том, появляется ли прошлое в этом сознании, как утверждает Брентано, действительно в модусе фантазии.
Когда Брентано говорит о приобретении будущего, он различает между оригинальной интуицией времени, которая, по его словам, является творением оригинальной ассоциации, и расширенной интуицией времени, которая также происходит из фантазии, но не из оригинальной ассоциации. Мы также можем сказать, что интуиция времени противопоставляется непрезентирующему представлению времени – представлению бесконечного времени, времён и временных отношений, которые не реализуются интуитивно.
Теперь самое необычное то, что в своей теории интуиции времени Брентано вообще не принимает во внимание различие между восприятием времени и фантазией времени, различие, которое здесь навязывается и которое он не мог упустить. Даже если он отказывается говорить о восприятии чего-то временного (за исключением точки «теперь» как границы между прошлым и будущим), различие, лежащее в основе нашего разговора о восприятии последовательности и воспоминании о последовательности, воспринятой в прошлом (или даже просто фантазии о восприятии), несомненно, не может быть отрицаемо и должно быть каким-то образом прояснено.
Если оригинальная интуиция времени уже является творением фантазии, то что отличает эту фантазию временного от той, в которой мы сознаём нечто временное, принадлежащее более отдалённому прошлому – нечто, следовательно, не принадлежащее сфере оригинальной ассоциации и не соединённое в одном сознании с текущим восприятием, но соединённое когда-то с восприятием, которое теперь прошло? Если репрезентация пережитой вчера последовательности включает репрезентацию временного поля, изначально пережитого вчера, и если последнее уже представляет собой континуум изначально ассоциированных фантазий, то мы имеем дело с фантазиями фантазий. Здесь мы сталкиваемся с неразрешёнными трудностями в теории Брентано, которые ставят под сомнение точность его анализа изначального сознания времени.
То, что он не смог преодолеть эти трудности, зависит и от других недостатков, помимо указанных. Брентано не различает между актом и содержанием или, соответственно, между актом, содержанием аппрегензии и аппрегенируемым объектом. Однако мы должны определиться, к какому из этих аспектов следует отнести временной момент. Если оригинальная ассоциация присоединяет непрерывную последовательность представлений к текущему восприятию и если посредством этого производится временной момент, то мы должны спросить: что это за момент? Принадлежит ли он к акт-характеру как различие, существенно ему присущее, или к содержаниям аппрегензии – скажем, к чувственным содержаниям, когда, например, мы рассматриваем цвета или тона в их временном бытии?
Следуя учению Брентано о том, что представление как таковое не допускает различий, что нет разницы, помимо их первичных содержаний, между представлениями как представлениями, единственная оставшаяся возможность состоит в том, что фантазмы и ещё фантазмы, качественно одинаковые по содержанию, хотя и уменьшающиеся в полноте и интенсивности, непрерывно присоединяются к первичным содержаниям восприятия. Параллельно этому процессу фантазия добавляет новый момент – временной.
Эти объяснения неудовлетворительны в различных отношениях. Мы находим временные характеристики, последовательность и длительность, не только в первичных содержаниях, но также в аппрегенируемых объектах и аппрегенирующих актах. Анализ времени, ограниченный одним слоем, недостаточен; он должен, скорее, следовать всем слоям конституции.
Но давайте оставим все трансцендирующие интерпретации и, сосредоточившись на имманентных содержаниях, попытаемся подтвердить взгляд, что временная модификация должна пониматься через наложение момента – называемого временным моментом – который сочетается с другими элементами содержания, с качеством, интенсивностью и так далее.
Пережитый тон "А" только что прозвучал; он возобновляется посредством оригинальной ассоциации и, что касается его содержания, непрерывно удерживается в сознании. Но это означает: "А" вовсе не прошлое (во всяком случае, за исключением уменьшений его интенсивности), а остаётся настоящим. Вся разница состояла бы в том, что ассоциация считается творческой и что она добавляет новый момент, называемый «прошлое». Этот момент оттеняется и изменяется непрерывно, и в зависимости от степени изменения "А" является более или менее прошлым. Таким образом, прошлое, поскольку оно попадает в сферу оригинальной интуиции времени, должно в то же время быть настоящим. Временной момент «прошлое» должен был бы быть настоящим моментом переживания в том же смысле, как момент красного, который мы переживаем сейчас, – что, несомненно, является очевидным абсурдом.
Возможно, кто-то возразит, что "А" само по себе действительно прошлое, но что в сознании благодаря оригинальной ассоциации появляется новое содержание: "А" с характеристикой «прошлое». Тем не менее, если содержание, совершенно подобное "А", постоянно находится в сознании, даже с новым моментом, то "А" именно не прошлое, а длящееся. Следовательно, оно есть теперь и постоянно есть, и есть вместе с новым моментом «прошлое» – прошлое и настоящее одновременно.
Но как в таком случае мы знаем, что "А" существовало раньше, что оно уже существовало до существования настоящего "А"? Откуда мы получаем идею прошлого? Наличие "А" в сознании через присоединение нового момента, даже если мы называем этот новый момент моментом прошлого, неспособно объяснить трансцендирующее сознание: "А" прошлое. Оно не может дать ни малейшего представления о том, что то, что я теперь имею в сознании как "А" с его новой характеристикой, тождественно с чем-то, чего теперь нет в сознании, но что существовало.
Что же тогда представляют собой моменты оригинальной ассоциации, которые теперь переживаются? Быть может, они сами являются временами? В таком случае мы сталкиваемся с противоречием: все эти моменты есть теперь, заключённые в том же сознании объекта; они, следовательно, одновременны. И всё же последовательность времени исключает одновременность. Быть может, эти моменты – не сами временные моменты, а временные знаки? Но это лишь даёт нам новое слово. Сознание времени всё ещё не проанализировано: остаётся необъяснённым, как на основе таких знаков конституируется сознание прошлого, или каким образом, каким путём и посредством каких аппрегензий эти переживаемые моменты функционируют иначе, чем моменты качества, и функционируют так, что сознание, которое должно быть теперь, приходит к отношению с не-теперь.
Попытка трактовать прошлое как нечто нереальное и несуществующее также весьма сомнительна. Налагающийся психический момент не может создать ирреальность, равно как и не может устранить настоящее существование. Фактически вся сфера оригинальной ассоциации является настоящим и реальным переживанием. К этой сфере принадлежит весь ряд оригинальных временных моментов, произведённых оригинальной ассоциацией, вместе с остальными моментами, принадлежащими временному объекту.
Таким образом, мы видим, что бесполезен анализ временного сознания, который стремится сделать интуитивную протяжённость времени понятной лишь посредством новых моментов, непрерывно оттеняемых, которые каким-то образом прикрепляются или сливаются с моментами содержания, конституирующими объект, локализованный во времени. Короче говоря: временная форма не является ни самим временным содержанием, ни комплексом новых содержаний, которые каким-то образом присоединяются к временному содержанию.
Теперь, даже если Брентано не впал в ошибку редукции, по образцу сенсуализма, всех переживаний к простым первичным содержаниям, и даже если он первым признал радикальное разделение между первичными содержаниями и акт-характерами, его теория времени всё же показывает, что он просто не принял во внимание теоретически решающие акт-характеры. Вопрос о том, как возможно временное сознание и как его следует понимать, остаётся без ответа.
Аналитический обзор теории происхождения времени у Брентано в интерпретации Гуссерля.В §3–6 первой части Лекций о сознании внутреннего времени (1905) Гуссерль анализирует теорию происхождения времени, предложенную Францем Брентано. Ключевая идея Брентано заключается в том, что временное сознание формируется через «первоначальные ассоциации» – механизм, посредством котором актуальные перцептивные представления автоматически порождают связанные с ними мнемические образы, обогащённые временной характеристикой. Брентано утверждает, что без этого механизма мы не смогли бы воспринимать последовательности, такие как мелодия, поскольку каждый тон исчезал бы бесследно, оставляя лишь изолированные моменты, лишённые временной связи.
Гуссерль подробно разбирает пример с мелодией: если бы предыдущие тоны сохранялись в сознании без изменения, мы воспринимали бы не последовательность, а нагромождение звуков, подобное аккорду. Однако благодаря непрерывной временной модификации – постепенному «отодвиганию» тонов в прошлое – возникает структура временного потока. Брентано называет этот процесс «первоначальной ассоциацией», подчёркивая, что фантазия (воспроизводящее воображение) играет ключевую роль, добавляя к содержанию ощущений новый временной момент, отсутствующий в исходном восприятии.
Однако Гуссерль указывает на двусмысленность в теории Брентано. Во-первых, Брентано смешивает трансцендентный (объективный) и имманентный (феноменологический) уровни анализа. Он говорит о «раздражителях», «психических переживаниях» и «законах ассоциации», что относится к психологии, а не к феноменологии, которая должна исследовать чистое сознание времени без натуралистических предпосылок. Во-вторых, Брентано не различает восприятие времени и фантазию времени, что ведёт к парадоксальному выводу: прошлое существует лишь как ирреальный продукт воображения, а не как данность в интенциональном сознании.
Гуссерль также критикует редукционистский подход Брентано, который сводит временное сознание к присоединению новых моментов к чувственным содержаниям. Если прошлое – это просто «настоящее с модификацией», то как объяснить, что мы осознаём его именно как ушедшее, а не как вариацию актуального переживания? Например, если тон А «прошёл», но продолжает удерживаться в сознании как А + «прошлое», то он одновременно и есть, и был, что противоречит самому понятию временной последовательности (ср. с апориями времени у Августина в Исповеди, XI).
Кроме того, Брентано не учитывает акт-характеры сознания – интенциональные модусы, через которые время конституируется. Для Гуссерля временность – не просто свойство содержаний, а форма сознания, проявляющаяся в протяжённости переживаний (удержании, текущем восприятии и протенции). Брентано же, несмотря на своё различение актов и содержаний, остаётся в рамках ассоциативной психологии, не раскрывая, как именно временные предикаты («было», «будет») соотносятся с интенциональностью.
В §6 Гуссерль подводит итог: теория Брентано содержит феноменологическое ядро (идею модификации времени), но затемняет его натуралистическими и психологизирующими допущениями. Критика Гуссерля предвосхищает его более поздние разработки в Формальной и трансцендентальной логике (1929), где подчёркивается, что время – не объект, а горизонт всякого опыта.
Таким образом, гуссерлевский анализ выявляет две ключевые проблемы теории Брентано:
1. Смешение уровней: психологический генезис времени ≠ феноменологическое описание.
2. Неадекватность объяснения: временные модификации нельзя сводить к «приклеиванию» предикатов к содержаниям.
Этот разбор служит основой для последующего гуссерлевского учения о временном сознании как самоконституирующемся потоке, где прошлое дано не как фантазма, а как удержание (Retention), а будущее – как протенция (ср. с анализом времени у Хайдеггера в Бытии и времени, 1927).



