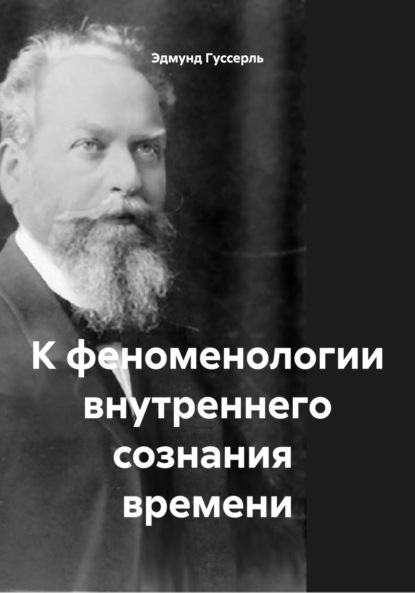
Полная версия:
К феноменологии внутреннего сознания времени
Мы сосредотачиваем внимание на свисте, который звучит сейчас: в каждой точке передо мной предстает протяжение, и оно предстает в протяжении "явления". В каждой фазе этого протяжения явление имеет свой момент качества и свой момент аппрегензии. Однако момент качества – это не реальное качество, не тон, который реально существовал бы сейчас, то есть который можно было бы принять за наличное, хотя и имманентное, тональное содержание.
Реальное содержание сознания "теперь" возможно включает ощущаемые тоны; эти ощущаемые тоны должны тогда обязательно характеризоваться в объективирующей аппрегензии как воспринятые тоны, как настоящие тоны, но ни в коем случае не как прошлые.
Ретенционное сознание действительно содержит сознание прошлого тона, первичную память о тоне, и его нельзя разделить на ощущаемый тон и аппрегензию как память. Подобно тому, как фантазийный тон – это не тон, а фантазия тона, или как фантазия тона и ощущение тона – это принципиально разные вещи, а не одно и то же, только по-разному интерпретируемое, так и первично вспоминаемый в интуиции тон – это нечто фундаментально и существенно иное, чем воспринимаемый тон; и коррелятивно, первичная память (ретенция) тона – это нечто иное, чем ощущение тона.
§ 13. Необходимость предшествования впечатления каждому удержанию.Данные, относящиеся к удержанию.
Существует ли закон, согласно которому первичная память возможна только в непрерывном присоединении к предшествующему ощущению или восприятию? Закон, согласно которому каждая ретенционная фаза мыслима только как фаза, то есть закон, исключающий возможность расширения ретенционной фазы в протяжённость, идентичную во всех своих фазах? Можно решительно утверждать: это абсолютно очевидно. Эмпирический психолог, привыкший рассматривать всё психическое как простой факт, конечно, это отрицает. Он скажет: почему нельзя представить себе начинающееся сознание, которое стартует с нового воспоминания, без предшествующего восприятия? Восприятие действительно может быть необходимо для возникновения нового воспоминания. Может быть так, что человеческое сознание способно иметь воспоминания, даже первичные, только после того, как имело восприятия; но обратное тоже мыслимо.
Против этого мы утверждаем априорную необходимость предшествования соответствующего восприятия или соответствующего первоначального впечатления ретенции. Прежде всего, мы должны настаивать на том, что фаза мыслима только как фаза, без возможности расширения. И фаза "теперь" мыслима только как предел непрерывности ретенций, подобно тому как каждая ретенционная фаза сама мыслима только как точка, принадлежащая такому континууму; и это верно для каждого "теперь" временного сознания. Но тогда даже полностью завершённая серия ретенций не мыслима без предшествующего ей соответствующего восприятия. Это означает, что серия ретенций, принадлежащая "теперь", сама является пределом и неизбежно подвергается изменению; вспоминаемое "погружается всё дальше в прошлое". Но не только это – оно обязательно является чем-то погружённым, чем-то, что неизбежно допускает очевидное припоминание, ведущее назад к "теперь", данному вновь.
Но тогда можно возразить: разве я не могу иметь воспоминание об А, даже первичное, если А на самом деле не происходило? Конечно, могу. Более того, я могу зайти ещё дальше. Я могу также иметь восприятие А, хотя А вообще не существует в реальности. Следовательно, когда у нас есть ретенция А (при условии, что А – трансцендентный объект), мы ни в коем случае не утверждаем наличие ретенции как доказательство того, что А должен был ей предшествовать; но мы действительно утверждаем это как доказательство того, что А должен был быть воспринят. Теперь, был ли А первично замечен или нет, он был дан "в персоне" для моего сознания, даже если остался незамеченным или замеченным лишь попутно.
Но если речь идёт о имманентном объекте, имеет место следующее: когда "является" последовательность, изменение или alteration имманентных данных, это тоже абсолютно достоверно. И внутри трансцендентного восприятия имманентная последовательность, принадлежащая по сути его структуре, также абсолютно достоверна.
В корне ошибочно рассуждать так: как в "теперь" я могу знать о "не-теперь", если я не могу сравнить "не-теперь" (которое, конечно, уже не существует) с "теперь" (а именно, с образом памяти, имеющимся у меня в "теперь")? Как если бы сущность памяти заключалась в том, что я принимаю образ в "теперь" за другую, подобную ему вещь и мог бы (и должен был бы) сравнивать их, как в случае образного представления. Память – и это в равной степени относится к ретенции – это не сознание-образа; это нечто совершенно иное. Вспоминаемое, конечно, не существует сейчас – иначе это было бы не нечто бывшее, а нечто настоящее; и в памяти (ретенции) оно дано не как "теперь", иначе память, или ретенция, была бы не памятью, а восприятием (или, соответственно, первоначальным впечатлением). Сравнение того, что больше не воспринимается, а лишь удерживается в ретенции, с чем-то вне этого не имеет никакого смысла.
Подобно тому как в восприятии я вижу бытие-теперь, а в расширенном восприятии – длящееся бытие, так в памяти я вижу прошлое, поскольку память является первичной. Прошлое дано в первичной памяти, а данность прошлого и есть память.
Теперь, если мы снова зададимся вопросом, мыслимо ли ретенционное сознание, которое не было бы продолжением импрессионального сознания, мы должны сказать: такое сознание невозможно, ибо каждая ретенция внутренне отсылает к впечатлению. "Прошлое" и "теперь" исключают друг друга. Одно и то же действительно может быть теперь и прошлым, но только потому, что оно длилось между прошлым и теперь.
§ 14. Воспроизведение временных объектов (вторичная память).Мы охарактеризовали первичную память, или ретенцию, как хвост кометы, прикреплённый к восприятию момента. Вторичную память, воспоминание, необходимо абсолютно отличать от первичной памяти, или ретенции. После того как первичная память завершилась, может возникнуть новое воспоминание об этом движении, о той мелодии. Теперь нам нужно подробнее прояснить различие между ними, уже обозначенное ранее.
Если ретенция присоединяется к актуально present восприятию – либо во время его перцептивного потока, либо в непрерывном единстве с ним после его полного завершения, – то естественно сначала сказать (как это делал Брентано), что актуальное восприятие конституируется как презентация на основе ощущений, а первичная память – как репрезентация, как вос-представление [Vergegenwärtigung], на основе фантазмов.
Подобно тому как вос-представления могут присоединяться непосредственно к восприятиям, они могут возникать и независимо, без связи с восприятиями, и это – вторичные воспоминания. Однако против этой точки зрения возникают серьёзные возражения (как мы уже отмечали в критике теории Брентано).
Рассмотрим случай вторичного воспоминания: мы вспоминаем, скажем, мелодию, недавно услышанную на концерте. Очевидно, что в этом случае весь феномен воспоминания имеет, mutatis mutandis, точно такую же конституцию, как и восприятие мелодии. Как и восприятие, оно имеет привилегированную точку: now-точке восприятия соответствует now-точка воспоминания. Мы пробегаем мелодию в фантазии; мы "как бы" слышим сначала первый тон, затем второй и так далее. В каждый момент времени в now-точке всегда есть тон (или фаза тона). Однако предыдущие тоны не стираются из сознания. Первичная память о тонах, которые "как бы" только что были услышаны, и ожидание (протенция) тонов, которые ещё предстоит услышать, сливаются с аппрезентацией тона, который "как бы" появляется сейчас и который "как бы" слышится теперь. Now-точка снова имеет для сознания временную кайму, которая производится в континууме мемориальных аппрезентаций; и полное воспоминание мелодии состоит в континууме таких континуумов временных каём и, коррелятивно, в континууме аппрезентационных континуумов описанного рода.
Но когда воспроизведённая мелодия, наконец, завершается, к этому "как бы-слышанию" присоединяется ретенция; "как бы-слышимое" продолжает угасать некоторое время – континуум аппрезентации ещё есть, но уже не как слышимый. Следовательно, всё происходит как в восприятии и первичной памяти, но само по себе не является ни восприятием, ни первичной памятью.
Конечно, мы на самом деле не слышим и не слышали, когда пропускаем мелодию в памяти или фантазии тон за тоном. В предыдущем случае мы говорили: мы действительно слышим, сам временной объект воспринимается, сама мелодия является объектом восприятия. И времена, временные определения и временные отношения также даны и воспринимаются сами. И снова: после того как мелодия затихла, мы больше не воспринимаем её как present, но она всё ещё есть в сознании. Это не present-мелодия, а только что прошедшая. Её только что прошедшее бытие – не просто нечто подразумеваемое, а данный факт, данный сам по себе и, следовательно, "воспринимаемый".
В противоположность этому, временная present во воспоминании – это remembered, re-presented present; и прошлое тоже remembered, re-presented прошлое, но не актуально present прошлое, не воспринимаемое прошлое, не первично данное и интуитивно схваченное прошлое.
С другой стороны, само воспоминание является актуально и изначально конституированным воспоминанием, а впоследствии – только что прошедшим воспоминанием. Оно само строится в континууме первоначальных данных и ретенций и в единстве с ними конституирует (или, вернее, реконституирует) имманентную или трансцендентную длящуюся объективность (в зависимости от того, направлено ли воспоминание на что-то имманентное или трансцендентное).
Ретенция, напротив, не производит никаких длящихся объективностей (ни изначально, ни репродуктивно), а лишь удерживает в сознании произведённое и накладывает на него характер "только что прошедшего".
§ 15. Способы осуществления воспроизведения.Воспоминание может осуществляться в разных формах. Либо мы выполняем его в простом схватывании, как когда воспоминание "всплывает на поверхность", и мы в мгновение ока смотрим на вспоминаемое. В этом случае вспоминаемое расплывчато; возможно, воспоминание интуитивно выдвигает привилегированную momentary фазу, но не повторяет свой объект.
Либо мы осуществляем воспоминание, которое действительно воспроизводит и повторяет, воспоминание, в котором временной объект полностью заново строится в континууме вос-представлений и в котором мы "как бы" воспринимаем его снова – но только "как бы". Весь процесс является репрезентационной модификацией перцептивного процесса со всеми его фазами и стадиями вплоть до ретенций включительно: но всё имеет индекс репродуктивной модификации.
Мы также находим простое смотрение или схватывание, происходящее непосредственно на основе ретенции, как когда мелодия, лежащая в единстве ретенции, завершилась, и мы обращаем внимание назад (рефлексируем) на её часть, не воспроизводя её заново. Это акт, возможный для всего, что развивалось последовательными шагами, даже в шагах спонтанности – например, в последовательных шагах спонтанности мышления.
Конечно, объективности, произведённые мышлением, также конституируются последовательно. Поэтому, кажется, можно сказать: объективности, изначально построенные во временных процессах, конституируемые член за членом или фаза за фазой (как корреляты единых актов, непрерывно и сложно связанных), могут быть схвачены в ретроспективном взгляде, как если бы они были объектами, завершёнными в одной временной точке. Но тогда эта данность определённо отсылает назад к другой, "изначальной" данности.
Смотрение-на или оглядывание-назад на ретенционно данное – и сама ретенция – затем исполняется в собственном вос-представлении: данное как только что бывшее показывает себя идентичным вспоминаемому.
Дальнейшие различия между первичной и вторичной памятью проявятся, если мы соотнесём их с восприятием.
§ 16. Восприятие как презентация в отличие от ретенции и репродукции.Здесь, конечно, требуется дальнейшее разъяснение употребления слова «восприятие». В случае «восприятия мелодии» мы отличаем сейчас звучащий тон, называя его «воспринимаемым», от уже прошедших тонов, называя их «не воспринимаемыми». С другой стороны, мы называем всю мелодию воспринятой, даже если непосредственно дан лишь текущий момент. Мы поступаем так, потому что протяжённость мелодии дана не только точечно в протяжённости акта восприятия, но и благодаря единству ретенционального сознания, которое «удерживает» в сознании сами прошедшие тоны и последовательно осуществляет единство сознания, относящегося к единому временному объекту – мелодии. Объективность, такая как мелодия, не может быть «воспринята» или исходно дана иначе, чем в такой форме. Конституированный акт, состоящий из сознания «теперь» и ретенционального сознания, является адекватным восприятием временного объекта. Этот объект должен включать временные различия, и они конституируются именно в таких актах – в первоначальном сознании, ретенции и протенции.
Если интенциональный акт направлен на мелодию как целое, то мы имеем дело исключительно с восприятием. Но если он направлен на отдельный тон или такт самих по себе, то восприятие сохраняется лишь до тех пор, пока воспринимается то, что имеется в виду, и превращается в чистую ретенцию, как только этот элемент становится прошлым. Для объективности такт тогда уже не является «настоящим», но «прошлым». Однако вся мелодия остаётся настоящей, пока она ещё звучит, пока тоны, принадлежащие ей и схватываемые в единстве аппрегензии, ещё звучат. Она становится прошлой только после того, как исчезает последний тон.
Учитывая наши предыдущие разъяснения, мы должны сказать, что эта относительность распространяется и на отдельные тоны. Каждый тон конституируется в непрерывности тональных данных, и в каждый момент только одна точечная фаза дана как «теперь», тогда как остальные присоединены как ретенциональный «хвост». Но мы можем утверждать: временной объект воспринимается (или импрессионально интендируется) до тех пор, пока он продолжает генерироваться в непрерывно возникающих новых первоначальных впечатлениях.
Таким образом, мы охарактеризовали само прошлое как воспринимаемое. Разве мы не воспринимаем уходящее, разве в описанных случаях мы не осознаём непосредственно «только что бывшее», «только что прошедшее» в его самоданности, в модусе само-данности? Очевидно, что здесь значение «восприятия» не совпадает с предыдущим. Требуются дальнейшие различения.
Если при схватывании временного объекта мы различаем перцептивное и мнемическое (ретенциональное) сознание, то противоположности «восприятие – первичная память» соответствует на стороне объекта противоположность «теперь-настоящее» и «прошлое». Временные объекты – и это относится к их сущности – распространяют своё содержание на временную протяжённость, и такие объекты могут конституироваться только в актах, которые сами конституируют временные различия. Однако акты, конституирующие время, по сути своей суть акты, конституирующие настоящее и прошлое; они обладают характером тех «восприятий временных объектов», чью замечательную аппрегензионную структуру мы подробно описали.
Теперь, если мы соотнесём употребление слова «восприятие» с различиями данности, в которых временные объекты себя презентируют, противоположностью восприятию окажутся первичная память и первичное ожидание (ретенция и протенция), причём восприятие и не-восприятие непрерывно переходят друг в друга. В сознании, принадлежащем непосредственному интуитивному схватыванию временного объекта – например, мелодии – воспринимается такт, тон или часть тона, звучащая сейчас, а то, что интуитируется как прошлое в данный момент, не воспринимается. Аппрегензии здесь непрерывно сливаются друг с другом; они завершаются аппрегензией, конституирующей «теперь», но это лишь идеальный предел. Есть континуум, восходящий к идеальному пределу, подобно тому как континуум оттенков красного сходится к идеально чистому красному. Однако в нашем случае нет отдельных аппрегензий, соответствующих отдельным оттенкам красного, которые могли бы быть даны сами по себе; вместо этого у нас всегда есть – и, по сущности дела, может быть только – континуум аппрегензий, вернее, единый непрерывно модифицируемый континуум.
Таким образом, восприятие здесь – это акт-характеристика, объединяющая непрерывность акт-характеристик и отличающаяся обладанием этого идеального предела. Подобная непрерывность без этого предела есть чистая память. В идеальном смысле восприятие (импрессия) – это фаза сознания, конституирующая чистое «теперь», а память – любая другая фаза континуума. Однако «теперь» – это лишь идеальный предел, нечто абстрактное, что не может существовать само по себе. Более того, даже это идеальное «теперь» не является чем-то радикально отличным от «не-теперь», но непрерывно с ним опосредовано. И этому соответствует непрерывный переход восприятия в первичную память.
§ 17. Восприятие как акт, дающий нечто самоё себя, в противоположность репродукции.Помимо противопоставления восприятия (или давания самого настоящего) и первичной памяти, коррелятом которой является данное прошлое, существует и другое противопоставление – между восприятием и воспоминанием (или вторичной памятью). В воспоминании нам «является» «теперь», но в совершенно ином смысле, чем в восприятии. Это «теперь» не «воспринимается» – то есть не даётся самоё себя – но репрезентируется. Оно представляет «теперь», которое не дано. Точно так же и течение мелодии в воспоминании представляет «только что прошедшее», но не даёт его. Даже в чистой фантазии каждый индивид каким-то образом протяжён во времени, имея своё «теперь», «до» и «после»; но «теперь», «до» и «после» лишь воображаются, как и весь объект.
Здесь, следовательно, встаёт вопрос о совершенно ином понятии восприятия. Восприятие в данном случае – это акт, который ставит нечто перед нашими глазами как самоё себя, акт, исходно конституирующий объект. Его противоположность – репрезентация, понимаемая как акт, который не ставит сам объект перед глазами, а лишь представляет его; который, так сказать, даёт его перед глазами в образе, хотя и не в точности в манере подлинного сознания-образа. Здесь мы вообще ничего не говорим о непрерывном опосредовании восприятия его противоположностью.
До этого момента сознание прошлого – то есть первичное сознание прошлого – не называлось восприятием, потому что восприятие понималось как акт, исходно конституирующий «теперь». Но сознание прошлого не конституирует «теперь»; оно конституирует «только что прошедшее», нечто, интуитивно предшествующее «теперь». Однако если мы назовём восприятием акт, в котором лежит весь «исток», акт, который конституирует исходно, то первичная память и есть восприятие. Ибо только в первичной памяти мы видим прошлое, только в ней прошлое конституируется – и конституируется презентативно, а не репрезентативно. «Только что прошедшее», «до» в противоположность «теперь», может быть непосредственно увидено лишь в первичной памяти; её сущность – давать это новое и исходное прошлое в первичной, непосредственной интуиции, подобно тому как сущность восприятия «теперь» – давать «теперь» непосредственно.
С другой стороны, воспоминание, как и фантазия, предлагает нам лишь репрезентацию; воспоминание – это, так сказать, то же самое сознание, что и акт, направленный на «теперь», и акт, направленный на прошлое, акты, создающие время, – то же самое, но всё же модифицированное. Воображаемое «теперь» представляет «теперь», но не даёт его самого; воображаемые «до» и «после» лишь представляют «до» и «после», и так далее.
§ 18. Значение воспоминания для конституирования сознания длительности и последовательности.Конституирующее значение первичной и вторичной памяти предстаёт несколько иным, если вместо данности длящихся объективностей мы рассмотрим данность самой длительности и последовательности.
Предположим, что А возникает как первоначальное впечатление и длится некоторое время, и что вместе с ретенцией А на определённой стадии развития появляется В, конституируясь как длящееся В. На протяжении всего этого процесса сознание остаётся сознанием того же самого А, «уходящего в прошлое»; того же самого А в потоке этих модусов данности; и того же самого А в отношении его формы бытия – «длительности», которая принадлежит содержанию его бытия, и в отношении всех точек этой длительности. То же самое справедливо для В и для интервала между двумя длительностями или их временными точками.
Но здесь появляется нечто новое: В следует за А; дана последовательность двух длящихся данных с определённой временной формой, протяжённостью времени, охватывающей эту последовательность. Сознание последовательности – это сознание, которое исходно даёт свой объект: это «восприятие» данной последовательности.
Теперь рассмотрим репродуктивную модификацию этого восприятия – а именно, воспоминание. Я «повторяю» сознание этой последовательности; я представляю её себе мнемически. Я «могу» это делать и делаю это «сколько угодно раз». Априори репрезентация переживания лежит в сфере моей «свободы». («Я могу» здесь – практическое «я могу», а не «простая идея».)
Как же выглядит репрезентация пережитой последовательности, и что относится к её сущности? Сначала можно сказать: я представляю себе сначала А, затем В; если изначально у меня было А-В, то теперь (если индекс обозначает память) у меня А'-В'. Но это неадекватно, ибо это означало бы, что теперь у меня есть, в сознании последовательности этих воспоминаний, воспоминание А' и «после» воспоминание В'. Но тогда у меня было бы «восприятие» последовательности этих воспоминаний, а не мнемическое сознание последовательности.
Поэтому я должен представить ситуацию как (А-В)'. Это сознание действительно включает А', В', но также и «-». Последовательность, конечно, не является третьим элементом, как если бы запись знаков друг за другом означала саму последовательность. Тем не менее, я могу записать закон:
(А-В)' = А' – В',
в том смысле, что присутствует сознание воспоминания об А и В, но также и модифицированное сознание «В следует за А».
Если мы спросим о сознании, которое исходно даёт последовательность длящихся объективностей – а именно, последовательность самих длительностей – то обнаружим, что оно необходимо требует ретенции и воспоминания. Ретенция конституирует живой горизонт «теперь»; в ней у меня есть сознание «только что прошедшего». Но то, что исходно конституируется здесь – например, в удержании только что услышанного тона – это лишь «отодвигание» фазы «теперь» или, в случае полностью конституированной длительности, самой этой длительности, которая в этой завершённости уже не конституируется и не воспринимается.
Однако я могу осуществить репродукцию в «совпадении» с этим «результатом», который отодвигается назад. Тогда прошлое длительности даётся мне, даётся именно как «повторная данность» длительности как таковой. И мы должны отметить: лишь прошлые длительности я могу исходно интуировать в актах, повторяющих свои объекты – лишь прошлые длительности я могу актуально интуировать, идентифицировать и иметь объективно как идентичный объект многих актов. Я могу заново пережить настоящее, но оно не может быть дано вновь.
Если я возвращаюсь к одной и той же последовательности, как могу делать в любое время, и идентифицирую её как тот же самый временной объект, я создаю последовательность вспоминающих переживаний в единстве накладывающегося сознания последовательности.
Вопрос: как выглядит этот процесс идентификации? Прежде всего, последовательность – это последовательность переживаний: первое – исходное конституирование последовательности А-В; второе – воспоминание об этой последовательности; затем то же самое снова и так далее. Вся последовательность исходно дана как присутствие. Я могу снова иметь воспоминание об этой последовательности, и могу снова иметь воспоминание о таком воспоминании, и так до бесконечности. По эйдетическому закону, каждое воспоминание повторяемо не только в том смысле, что возможно неограниченное число уровней, но и в том, что это сфера «я могу». Каждый уровень по сущности есть акт свободы (что не исключает препятствий).
Как выглядит первое воспоминание этой последовательности?
[(А – В) – (А – В)']'
Тогда, в соответствии с предыдущим законом, я могу вывести, что в эту формулу входят (А-В)' и [(А-В)]’, следовательно, в неё входит воспоминание второго уровня – а именно, в последовательности; и, естественно, также воспоминание о последовательности (-'). Если я повторю это снова, у меня будут ещё более высокие модификации воспоминания и, вместе с ними, сознание того, что я несколько раз и последовательно осуществил репрезентацию, повторяющую свой объект. Это вполне обычное явление.
Я дважды стучу по столу. Я представляю себе последовательность; затем замечаю, что сначала у меня была последовательность, данная перцептивно, а затем я её вспомнил; затем замечаю, что я только что осуществил именно это наблюдение – а именно, как третий член ряда, который я могу повторять себе, и так далее. Всё это вполне обычно, особенно в феноменологическом методе работы.



