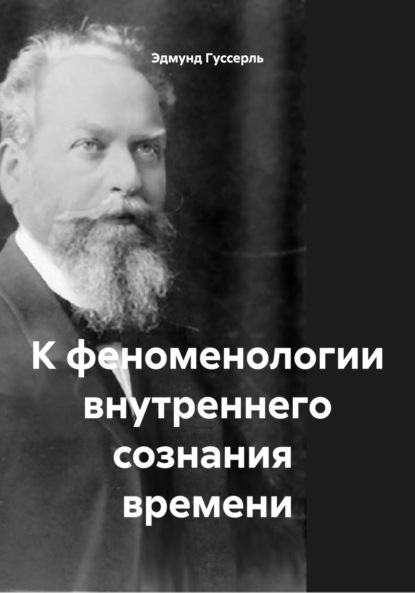
Полная версия:
К феноменологии внутреннего сознания времени

Эдмунд Гуссерль
К феноменологии внутреннего сознания времени
Часть первая. Лекции о сознании внутреннего времени 1905 года.
Аналитический обзор "О пассивном и активном синтезе и феноменологии сознания внутреннего времени" Эдмунда Гуссерля.1. Введение: Эпохé объективного времени и вопрос об истоке времени.
Гуссерль начинает с феноменологической редукции (эпохé), исключающей объективное время как данность естественной установки. Это позволяет сосредоточиться на имманентном времени сознания. Вопрос об «истоке времени» ставится как проблема конституирования временности в самом потоке переживаний. Здесь Гуссерль отталкивается от Брентано, который пытался объяснить временность через ассоциативные модификации представлений, но критикует его за недостаточное внимание к интенциональной структуре времени (Husserl, "Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins", 1905).
2. Критика теории времени Брентано.
Брентано объяснял восприятие прошлого через «первоначальные ассоциации» и модификации содержаний представлений. Однако Гуссерль показывает, что такой подход не учитывает активную роль сознания в удержании прошлого (ретенция) и предвосхищении будущего (протенция). Например, когда мы слышим мелодию, прошлые ноты не просто ассоциируются, но удерживаются в специфической интенциональной форме – как «только что бывшие» (Husserl, §6).
3. Анализ временного сознания: ретенция, первичное впечатление, протенция.
Гуссерль вводит триаду:
– Первичное впечатление – актуальное переживание «теперь».
– Ретенция – удержание только что прошедшего, но не как образ (это отличает её от вторичной памяти), а как модифицированное «живое» прошлое.
– Протенция – предвосхищение ближайшего будущего.
Эта структура иллюстрируется восприятием мелодии: каждая нота дана в «теперь», но её смысл возникает только в связи с удержанными предыдущими нотами и ожидаемыми последующими (Husserl, §11–13).
4. Память и фантазия: различие между ретенцией и репродукцией.
Гуссерль различает:
– Первичную память (ретенцию) – непосредственное удержание прошлого в восприятии.
– Вторичную память (репродукцию) – активное воспоминание, требующее воспроизведения прошлого.
Например, вспоминая вчерашний концерт, мы не просто удерживаем его (как в ретенции), а реконструируем в воображении (Husserl, §19). Это различие критически важно для понимания пассивного (ретенция) и активного (репродукция) синтеза.
5. Конституция объективного времени и поток сознания.
Временные объекты (например, мелодия) конституируются в потоке сознания через двойную интенциональность:
1. Поперечная интенциональность – направлена на объект во времени (ноты мелодии).
2. Продольная интенциональность – направлена на сам поток как единство (Husserl, §39).
Этот анализ предвосхищает поздние идеи Гуссерля о пассивном синтезе в "Анализах пассивного синтеза" (1918–1926), где он исследует, как сознание спонтанно организует опыт до рефлексивного осмысления.
6. Абсолютный поток и проблема саморефлексии.
Гуссерль приходит к выводу, что время-конституирующий поток – это «абсолютная субъективность», которая сама не может быть объективирована, но является условием всякого восприятия времени (Husserl, §36). Это порождает апорию: как поток может осознавать сам себя? Эта проблема остаётся открытой и позднее обсуждается в "Картезианских размышлениях" (1931).
7. Дополнения и развитие концепции (1905–1917).
В поздних текстах Гуссерль углубляет анализ:
– Приложение VI рассматривает «схватывание абсолютного потока» – попытку осмыслить само времяобразующее сознание.
– Приложение VIII развивает идею двойной интенциональности.
– Зеефельдские рукописи (1905–1907) исследуют проблему индивидуации временных объектов.
8. Источники для углублённого изучения.
1. Основные тексты Гуссерля:
– "Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893–1917)" (Husserliana X) – ключевой труд по теме.
– "Analysen zur passiven Synthesis (1918–1926)" (Husserliana XI) – развитие идей пассивного синтеза.
– "Cartesianische Meditationen" (1931) – связь времени с трансцендентальной субъективностью.
2. Комментарии и исследования:
– Rudolf Bernet, "Einleitung" в Husserliana X – лучший вводный анализ.
– Dan Zahavi, "Husserl’s Phenomenology" (2003) – ясное объяснение временного сознания.
– John Brough, "Husserl’s Phenomenology of Time-Consciousness" – детальный разбор.
3. Связь с другими философами:
– Брентано ("Psychologie vom empirischen Standpunkt") – исходная точка критики.
– Хайдеггер ("Sein und Zeit") – переосмысление гуссерлевской темпоральности.
– Мерло-Понти ("Феноменология восприятия") – развитие идей пассивного синтеза.
Заключение.
Гуссерлевский анализ времени – фундамент феноменологии, показывающий, как сознание конституирует временность. Его различение пассивных и активных синтезов остаётся ключевым для понимания восприятия, памяти и воображения. Для глубокого изучения стоит начать с "Husserliana X", затем перейти к "Analysen zur passiven Synthesis" и современным интерпретациям.
Как читать?Шаг 1: Подготовка.
– Перед чтением ознакомьтесь с базовыми понятиями феноменологии:
– Интенциональность (сознание всегда "о чем-то").
– Эпохэ (воздержание от суждений о реальности).
– Ноэзис/ноэма (акт сознания и его предметный коррелят).
Шаг 2: Первое чтение (общее понимание).
– Читайте лекции 1905 года последовательно, отмечая:
– Как Гуссерль описывает восприятие времени?
– Чем ретенция отличается от памяти?
– Почему время нельзя свести к последовательности "точек"?
Шаг 3: Второе чтение (углубленное).
– Сопоставьте с более поздними приложениями:
– Как меняется понимание временного потока?
– Как Гуссерль критикует Брентано и Августина?
Шаг 4: Анализ примеров.
– Разбирайте конкретные случаи:
– Мелодия – почему мы слышим ее как целое, а не как отдельные ноты?
– Воспоминание – как прошлое дано в настоящем?
4. Критические моменты и сложности.
– Абстрактность – Гуссерль избегает метафор, опираясь на строгий феноменологический язык.
– Динамика ретенции – трудно ухватить, чем удержание отличается от воспоминания.
– Абсолютный поток – не является ни объектом, ни субъектом, но условием их возможности.
5. Дополнительная литература.
– Хайдеггер, "Бытие и время" – развитие идей временности.
– Мерло-Понти, "Феноменология восприятия" – телесный аспект времени.
– Р. Соколовски, "Введение в феноменологию" – ясное объяснение Гуссерля.
Введение.
Анализ временного сознания – это давняя проблема описательной психологии и теории познания. Первым, кто глубоко ощутил огромные трудности, скрытые в этом анализе, и кто боролся с ними почти до отчаяния, был Августин. Даже сегодня любой, кто занимается проблемой времени, должен тщательно изучить главы 14–28 книги XI «Исповеди». Ведь в этих вопросах наша современная эпоха, столь гордящаяся своими знаниями, не смогла превзойти и даже сравниться с великим достижением этого мыслителя, так искренне боровшегося с проблемой времени. Мы и сегодня можем повторить вслед за Августином: "«Если никто меня не спрашивает, я знаю; если хочу объяснить спрашивающему – не знаю»".
Разумеется, все мы знаем, что такое время – это самая привычная вещь. Но как только мы пытаемся дать отчет о временном сознании, установить правильное соотношение между объективным временем и субъективным временным сознанием и понять, как временная объективность – а значит, и любая индивидуальная объективность вообще – может конституироваться в субъективном сознании времени, мы запутываемся в самых странных трудностях, противоречиях и путанице. Более того, это происходит даже тогда, когда мы просто пытаемся подвергнуть анализу чисто субъективное временное сознание, феноменологическое содержание, относящееся к переживаниям времени.
В качестве отправной точки нашего исследования может послужить изложение анализа времени Брентано. К сожалению, Брентано никогда не публиковал свой анализ, сообщая его только в лекциях. Марти кратко описал его в своей работе о развитии цветового чувства, вышедшей в конце 70-х годов XIX века, а Штумпф также посвятил ему несколько слов в своей психологии звука.
§ 1. Исключение объективного времени.Прежде чем перейти к делу, нам необходимо сделать несколько общих замечаний. Мы намерены провести феноменологический анализ временного сознания. Как и любой феноменологический анализ, он требует полного исключения любых допущений, предписаний и убеждений относительно объективного времени – полного исключения всех трансцендирующих предпосылок о существующем.
С точки зрения объективности, каждое переживание, как и любое реальное бытие и момент бытия, может иметь свое место в едином объективном времени – включая само переживание восприятия и представления времени. Кому-то может быть интересно определить объективное время переживания, в том числе переживания, конституирующего время. Также может представлять интерес исследование того, как время, полагаемое как объективное в акте временного сознания, соотносится с действительным объективным временем, соответствуют ли оценки временных интервалов объективно реальным временным интервалам или отклоняются от них. Но это не задачи феноменологии. Подобно тому, как действительная вещь, действительный мир не являются феноменологическими данными, так и мировое время, реальное время, время природы в смысле естествознания и даже психологии как науки о психическом – тоже не являются таковыми.
Когда мы говорим об анализе временного сознания, о временном характере объектов восприятия, памяти и ожидания, может показаться, что мы уже предполагаем течение объективного времени и затем, по сути, изучаем лишь субъективные условия возможности интуиции времени и его познания. Однако мы принимаем не существование мирового времени, не существование физической длительности и т. п., а "являющееся время", "являющуюся длительность" как являющиеся. Это абсолютные данные, которые бессмысленно подвергать сомнению. Конечно, мы допускаем существование времени в данном случае, но это время – имманентное время потока сознания, а не время переживаемого мира. То, что сознание тонального процесса, мелодии, которую я сейчас слышу, демонстрирует последовательность, – это то, в чем я обладаю очевидностью, делающей бессмысленным любое сомнение и отрицание.
Чтобы еще яснее показать, что означает исключение объективного времени, можно провести параллель с пространством, поскольку пространство и время демонстрируют столь значительные и часто отмечаемые аналогии. Сознание пространства – то есть переживание, в котором возникает «интуиция пространства» как восприятие и фантазия – принадлежит сфере феноменологически данного. Если мы открываем глаза, мы видим объективное пространство, что означает (как показывает рефлексивное рассмотрение), что у нас есть визуальные сенсорные содержания, которые образуют явление пространства, явление определенных вещей, расположенных так или иначе в пространстве. Если абстрагироваться от всех интерпретаций, выходящих за пределы данного, и свести перцептивное явление к данным первичным содержаниям, последние дадут континуум зрительного поля, который квази-пространственен, но очевидно не является пространством или поверхностью в пространстве. Грубо говоря, континуум зрительного поля – это двукратная непрерывная множественность. Мы находим там отношения, такие как «рядом», «одно над другим», «одно внутри другого», а также замкнутые линии, полностью ограничивающие часть поля, и т. д. Но это не отношения в объективном пространстве. Совершенно бессмысленно говорить, например, что точка зрительного поля находится в метре от угла этого стола или рядом с ним, над ним и т. д. Точно так же и явление физической вещи не имеет положения в пространстве или каких-либо пространственных отношений: явление дома не находится рядом с домом, над ним, в метре от него и т. п.
Аналогичное справедливо и для времени. Временные апперцепции, переживания, в которых является временное в объективном смысле, – это феноменологические данные. Опять же, моменты переживания, которые специфически обосновывают временную апперцепцию как апперцепцию времени (например, специфически временные содержания апперцепции – то, что умеренный нативизм называет изначально временным), – феноменологически даны. Но все это не имеет никакого отношения к объективному времени. Феноменологический анализ не может открыть ничего об объективном времени. «Изначальное временное поле» – это очевидно не часть объективного времени; переживаемое «теперь», взятое само по себе, – не точка объективного времени, и так далее.
Объективное пространство, объективное время и вместе с ними объективный мир действительных вещей и событий – все это трансценденции. Но важно отметить, что пространство и действительность не являются трансцендентными в каком-то мистическом смысле, как вещи в себе, а представляют собой феноменальное пространство, феноменальную пространственно-временную реальность, являющуюся пространственную форму, являющуюся временную форму. Ничто из этого не является переживанием. А упорядоченные связи, которые можно обнаружить в переживаниях как подлинные имманентности, не встречаются в эмпирическом, объективном порядке и не вписываются в него.
Исследование данных места (рассматриваемых нативизмом в психологической установке), составляющих имманентный порядок «поля зрительных ощущений», а также исследование самого этого поля также принадлежало бы развитой феноменологии пространственного. Данные места соотносятся с являющимися объективными местами так же, как данные качества – с являющимися объективными качествами. Если в первом случае мы говорим о «знаках места», то во втором следовало бы говорить о «знаках качества». Ощущаемое красное – это феноменологический данный элемент, который, будучи одушевлен определенной функцией апперцепции, представляет объективное качество; само оно не является качеством. Воспринимаемое красное, а не ощущаемое красное, – это качество в собственном смысле, то есть определение являющейся вещи. Ощущаемое красное называется красным лишь по аналогии, ведь «красное» – это имя реального качества. Если в связи с определенными феноменологическими процессами мы говорим о «совпадении» одного с другим, мы все же должны отметить, что только благодаря апперцепции ощущаемое красное приобретает значение момента, представляющего качество физической вещи. Рассматриваемое само по себе, оно не содержит в себе ничего подобного. Таким образом, «совпадение» представляющего и представляемого в данном случае – это вовсе не совпадение, свойственное сознанию тождества, коррелятом которого является «одно и то же».
Если мы назовем «ощущаемым» феноменологический данный элемент, который посредством апперцепции делает нас сознающими нечто объективное как данное «в персоне» (что затем называется объективно воспринятым), мы должны также различать между чем-то временным, что «ощущается», и чем-то временным, что воспринимается. Последнее относится к объективному времени. Первое же само по себе не является объективным временем (или позицией в объективном времени), а представляет собой феноменологический данный элемент, посредством эмпирической апперцепции которого конституируется отношение к объективному времени. Временные данные (или, если угодно, временные знаки) сами по себе не являются временами. Объективное время принадлежит контексту эмпирически переживаемой объективности. «Ощущаемые» временные данные не просто ощущаются; они также «заряжены» апперцептивными характерами, и к ним, в свою очередь, принадлежат определенные притязания и правомочия: сопоставлять между собой времена и временные отношения, являющиеся на основе ощущаемых данных, приводить их в тот или иной объективный порядок и различать различные кажущиеся и действительные порядки. То, что конституируется здесь как объективно значимое бытие, – это в конечном счете единое бесконечное объективное время, в котором все вещи и события (тела и их физические качества, души и их психические состояния) имеют свои определенные временные позиции, которые мы можем определить с помощью хронометра.
Возможно (нам не нужно здесь это утверждать), что эти объективные определения в конечном итоге основываются на установлении различий и отношений, принадлежащих временным данным, или даже на непосредственной эквивалентности этим данным. Однако, например, ощущаемая «синхронность» не эквивалентна просто объективной одновременности; ощущаемое равенство временных интервалов, данное феноменологически, не есть прямое объективное равенство временных интервалов; и ощущаемый абсолютный временной данный элемент – опять же, не есть непосредственное переживание объективного времени (это верно даже для абсолютного данного «теперь»). Схватить содержание – особенно схватить его с очевидностью, именно так, как оно переживается, – еще не значит схватить объективность в эмпирическом смысле, объективную реальность в том смысле, в каком говорят об объективных физических вещах, событиях, отношениях, о положении в объективном пространстве и времени, об объективно реальной пространственной форме и временной форме и т. д.
Давайте рассмотрим кусок мела. Мы закрываем и открываем глаза. Тогда у нас есть два восприятия. Тем не менее мы говорим, что видим один и тот же мел дважды. Здесь у нас есть содержания, разделенные во времени; мы даже видим феноменологически разделение во времени. Но в объекте нет разделения: он один и тот же. В объекте есть длительность; в явлении – изменение. Таким образом, мы можем также ощущать, субъективно, временную последовательность там, где объективно должны констатировать сосуществование. Переживаемое содержание «объективируется», и тогда объект конституируется в модусе апперцепции из материала переживаемых содержаний. Но объект – это не просто сумма или комбинация этих «содержаний», которые вообще не входят в него. Объект больше, чем содержание, и в определенном смысле иное, чем оно. Объективность принадлежит «эмпирическому опыту», а именно, единству эмпирического опыта, связи природы, управляемой эмпирическими законами. Выраженное феноменологически: объективность конституируется не в «первичных» содержаниях, а в апперцептивных характерах и в законах, принадлежащих сущности этих характеров. Полностью понять это и сделать ясно постижимым – как раз и есть задача феноменологии познания.
§ 2. Вопрос о «происхождении времени».Следуя этим размышлениям, мы также понимаем различие между феноменологическим (то есть эпистемологическим) и психологическим вопросами о происхождении всех понятий, конституирующих опыт [Erfahrung], а значит, и понятия времени. Эпистемологический вопрос о возможности опыта – это вопрос о его сущности, и прояснение его феноменологической возможности требует возвращения к феноменологическим данным, поскольку переживаемое феноменологически состоит именно из них. Поскольку переживание разделено противоположностью «подлинного» и «неподлинного», а подлинный опыт, являющийся интуитивным и в конечном счете адекватным, задает критерий оценки всякого опыта, особенно необходима феноменология «подлинного» опыта.
Таким образом, вопрос о сущности времени приводит нас к вопросу о «происхождении» времени. Однако этот вопрос о происхождении направлен на первичные образования временного сознания, в которых интуитивно и подлинно конституируются изначальные различия временного как первоисточник всех очевидностей, связанных со временем. Этот вопрос о происхождении не следует смешивать с вопросом о психологическом происхождении, с той спорной проблемой, которая разделяет эмпиризм и нативизм. Последний касается исходного материала ощущений, из которого у человеческого индивида и даже у вида в целом возникают интуиции объективного пространства и объективного времени. Вопрос об эмпирическом генезисе для нас безразличен; нас интересуют переживания [Erlebnisse] в их предметном смысле и описательном содержании. Психологическая апперцепция, которая рассматривает переживания как психические состояния эмпирических личностей, психофизических субъектов, устанавливает связи – чисто психические или психофизические – между этими переживаниями и прослеживает становление, формирование и преобразование психических переживаний согласно законам природы, – эта психологическая апперцепция совершенно отлична от феноменологической. Мы не помещаем переживания в какую-либо реальность. Реальность интересует нас лишь постольку, поскольку она есть реальность, которая meant, объективируется, интуируется или мыслится концептуально.
Применительно к проблеме времени это означает, что нас интересуют переживания времени. То, что сами эти переживания закреплены в объективном времени, принадлежат миру физических вещей и психических субъектов, имеют в этом мире свое место, свою действенность, свое эмпирическое бытие и свое происхождение – нас это не касается, и мы ничего об этом не знаем. С другой стороны, нас интересует, что в этих переживаниях meant «данности в объективном времени». Именно это описание – что рассматриваемые акты означают ту или иную «объективность», или, точнее, выявление априорных истин, относящихся к различным конститутивным моментам объективности, – принадлежит сфере феноменологии.
Мы стремимся прояснить априори времени через исследование сознания времени, раскрытие его существенной конституции и демонстрацию содержаний схватывания и актных характеристик, которые – возможно, специфически – относятся ко времени и к которым по сути принадлежат априорные временные законы. Естественно, я имею в виду законы следующего очевидного рода: что фиксированный временной порядок есть двумерный бесконечный ряд, что два различных времени никогда не могут быть одновременными, что их отношение не является взаимным, что имеет место транзитивность, что каждому времени принадлежит более раннее и более позднее время, и так далее.
– Столько в качестве общего введения.
О введении к лекциям Гуссерля "О сознании внутреннего времени".Введение Гуссерля к лекциям о сознании внутреннего времени (1905) представляет собой глубокий феноменологический анализ проблемы временного сознания, уходящей корнями в античную философию, особенно в размышления Августина. Гуссерль отмечает, что, несмотря на кажущуюся очевидность времени как феномена, его концептуальное осмысление сталкивается с парадоксами, сформулированными ещё Августином: «Если никто меня не спрашивает, я знаю; если хочу объяснить спрашивающему – не знаю» (Исповедь, XI, 14–28). Этот парадокс подчеркивает разрыв между непосредственным переживанием времени и попытками его рационального описания.
Гуссерль выделяет ключевую трудность: как объективное время (время физических процессов, измеряемое наукой) соотносится с субъективным временным сознанием (феноменологическим переживанием длительности, последовательности и «теперь»). Он отвергает наивный реализм, предполагающий, что время существует независимо от сознания, и вместо этого предлагает феноменологический подход, требующий «эпохе» – воздержания от суждений об объективном времени. Это означает, что феноменология изучает не время как физическую реальность, а то, как время является в сознании, то есть имманентные структуры временного восприятия.
Для пояснения Гуссерль проводит аналогию с пространством. Подобно тому как зрительное поле (феноменологическое пространство) не совпадает с объективным пространством (например, точка в зрительном поле не находится «в метре от стола»), так и переживаемое время (например, длительность мелодии) не тождественно объективному времени (измеряемому часами). Феноменологический анализ раскрывает «первичные временные данные» – такие как «теперь», «удержание» (ретенция) и «предвосхищение» (протенция), – которые конституируют временной поток, но не сводятся к физическим временным координатам.
Гуссерль критически относится к психологизму, который сводит время к эмпирическим процессам в психике (например, к ассоциациям ощущений, как у Брентано). Вместо этого он ставит эпистемологический вопрос: как возможно само восприятие времени? Этот вопрос требует анализа интенциональности – направленности сознания на временные объекты (например, мелодию, где прошлые ноты удерживаются в ретенции, а будущие антиципируются).
Важное различие проводится между психологическим и феноменологическим происхождением времени. Психология изучает, как у индивида формируется представление о времени (например, через привычку или нейробиологические механизмы), тогда как феноменология исследует априорные условия временного сознания – например, почему время всегда дано как непрерывный поток, а не как набор дискретных моментов. Здесь Гуссерль опирается на кантовскую традицию, но идёт дальше, детализируя механизмы временной конституции.



