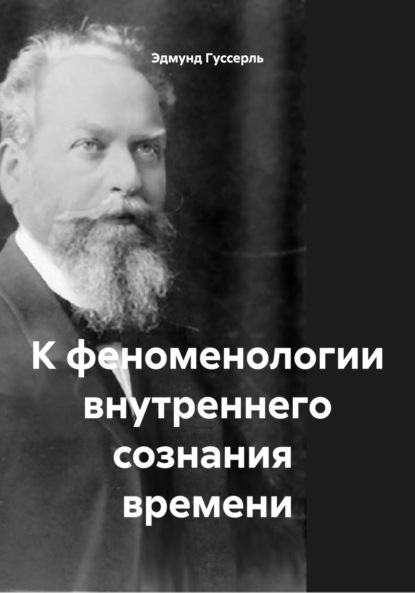
Полная версия:
К феноменологии внутреннего сознания времени
Первичное данное и модифицированное данное разного или эквивалентного содержания необходимо имеют разные временные позиции. А два модифицированных данных либо имеют одинаковые, либо разные временные позиции: одинаковые, если они происходят из одной точки «теперь»; разные, если из разных. Актуальное «теперь» – это одно «теперь» и конституирует одну временную позицию, сколько бы объективностей в нем ни конституировалось отдельно: все они имеют одну и ту же временную presentность и сохраняют свою одновременность в процессе схождения.
Здесь с очевидностью можно усмотреть, что временные позиции имеют интервалы, что эти интервалы суть величины и т. д.; равно как и дальнейшие истины, такие как закон транзитивности или закон, что если a раньше b, то b позже a.
К априорной сущности времени принадлежит то, что оно есть континуум временных позиций, иногда заполненных идентичными, а иногда изменяющимися объективностями, и что однородность абсолютного времени конституируется неопровержимо в потоке модификаций прошлого и в непрерывном возникновении «теперь» – генеративной временной точки, исходного пункта всех временных позиций вообще.
Кроме того, к априорной сущности ситуации принадлежит то, что ощущение, аппрегензия, занятие позиции – все это участвует в одном и том же временном потоке, и что объективированное абсолютное время необходимо тождественно времени, принадлежащему ощущению и аппрегензии. Преобъективированное время, принадлежащее ощущению, необходимо основывает уникальную возможность объективации временных позиций, которая соответствует модификации ощущения и степени этой модификации.
Объективированной временной точке, в которой, например, начинают звонить колокола, соответствует временная точка соответствующего ощущения. В начальной фазе ощущение имеет то же самое время; то есть, если оно впоследствии становится объектом, то оно необходимо сохраняет временную позицию, совпадающую с соответствующей временной позицией звона колоколов. Точно так же время восприятия и время воспринимаемого идентичны. Акт восприятия погружается назад во времени так же, как и воспринимаемое в своем явлении, и в рефлексии каждой фазе восприятия должна быть дана та же самая временная позиция, что и воспринимаемому.
Аналитический обзор гуссерлевской феноменологии внутреннего времени.
В Лекциях о сознании внутреннего времени (1905–1917) Эдмунд Гуссерль развивает радикальную феноменологическую теорию временности, преодолевая натуралистические и психологистские предпосылки предшественников (в частности, Франца Брентано). Ключевая проблема, которую он ставит, – как возможно сознание времени, если время не есть ни объективная данность, ни просто психологический конструкт. Гуссерль отвергает как сенсуалистский редукционизм (сведение времени к ощущениям длительности), так и ассоциативную модель Брентано, где временность возникает через «первоначальные ассоциации» фантазии, прикрепляющей к восприятию модифицированные образы прошлого.
Критика Брентано: время как продукт фантазии?
Брентано, как отмечает Гуссерль, объясняет временное сознание через механизм первоначальной ассоциации: актуальное восприятие (например, тон мелодии) автоматически порождает мнемический образ, обогащенный временным предикатом «прошлое». Так, звучащая нота, исчезая, не пропадает полностью, а трансформируется в «прошедшую» благодаря фантазии, которая добавляет к ней временной момент. Однако Гуссерль выявляет две фундаментальные ошибки этой модели:
1. Смешение уровней анализа: Брентано описывает генезис времени в психологических терминах («раздражители», «ассоциации»), тогда как феноменология требует исследования имманентных структур сознания, где время конституируется как явление, а не как продукт психических законов.
2. Неразличение восприятия и фантазии: если прошлое дано лишь как фантазма, то как возможно удержание («ретенция») только что прозвучавшего тона в единстве мелодии? Брентано отрицает восприятие последовательности, считая его иллюзией, но тогда само различение «теперь» и «прошлого» теряет почву.
Пример из §3: если бы предыдущие тоны мелодии сохранялись в сознании без изменения, мы слышали бы не последовательность, а аккорд. Однако Брентано не объясняет, как фантазия, добавляя предикат «прошлое», преодолевает парадокс: прошлое должно быть дано как ушедшее, а не как настоящее с модификацией. Гуссерль показывает, что такая модель приводит к абсурду: если тон А «прошёл», но продолжает существовать в сознании как А + «прошлое», то он одновременно есть и был, что противоречит самой идее временного потока (ср. с апориями времени у Августина в Исповеди, XI).
Собственная теория Гуссерля: ретенция, протенция и поток сознания.
Гуссерль заменяет ассоциативную модель трехчленной структурой временного сознания:
1. Первичное впечатление (Urimpression) – точка «теперь», где конституируется актуальное содержание (например, звучащий тон).
2. Ретенция – немедленное удержание только что прошедшего, не являющееся ни памятью, ни фантазией. Это не образ прошлого, а модификация самого впечатления, сохраняющая его в «живом» прошлом. Ретенция – «хвост кометы», прикрепленный к «теперь» (§11).
3. Протенция – предвосхищение будущего, пустое интенциональное направление, заполняемое в процессе восприятия.
Эта триада образует континуум потока, где каждая фаза неразрывно связана с другими. Ключевое отличие от Брентано: временность – не свойство содержаний, а форма сознания. В §8 Гуссерль описывает, как тон дан в «непрерывном потоке» модусов: «теперь»-фаза воспринимается, а истекшие фазы удерживаются в ретенции, образуя «временную кайму». При этом ретенция – не образ, а уникальный вид интенциональности (§12): она не репрезентирует прошлое (как вторичная память), а удерживает его в оригинальной данности.
Диаграмма времени и двойная интенциональность.
В §10 Гуссерль вводит схему временного континуума:
– Горизонтальная ось (AA') – последовательность «теперь»-точек.
– Вертикальная ось (EA') – ретенциональное погружение в прошлое.
Каждая точка «теперь» (E) сопровождается ретенциональным «хвостом», а весь поток обладает «двойной интенциональностью»:
1. Поперечная – удержание объекта в его временной протяженности (мелодия как целое).
2. Продольная – осознание самого потока как единства.
Этот анализ предвосхищает более поздние идеи Формальной и трансцендентальной логики (1929), где время – не объект, а горизонт всякого опыта.
Память и фантазия: вторичная репродукция.
Гуссерль строго различает:
– Первичную память (ретенцию) – непосредственное удержание прошлого в восприятии.
– Вторичную память – активное воспроизведение прошлого через репродукцию (§14).
Пример: если мелодия закончилась, её ретенциональное удержание сменяется воспоминанием, где прошлое дано как бы вновь, но с индексом «прошедшести». Здесь проявляется двойная интенциональность воспоминания (§25): оно не только репрезентирует событие, но и помещает его в объективное время через связь с актуальным «теперь».
Априорные законы времени.
В §33 Гуссерль формулирует априорные условия временного сознания:
1. Одновременность – два первичных впечатления в одном «теперь» имеют идентичную временную позицию.
2. Необратимость – «a раньше b» исключает «b раньше a».
3. Континуальность – время не состоит из дискретных точек, но есть непрерывный поток модификаций.
Эти законы коренятся не в психологии, а в феноменологической структуре сознания, где даже фантазия (например, воображаемая мелодия) подчиняется требованиям временного порядка.
Вывод: время как самоконституирующийся поток.
Гуссерль преодолевает антиномию «фиксированное время vs. текучесть», показывая, что временные точки идентичны в своей интенциональной данности, несмотря на непрерывное «погружение в прошлое». Объективное время конституируется через ретенционально-протенциональный синтез, где репродуктивная память (§32) связывает разрозненные фазы в единый поток.
Эта теория повлияла на Хайдеггера (Бытие и время, 1927) и Мерло-Понти (Феноменология восприятия, 1945), но её главное открытие – время как имманентная форма субъективности, без которой невозможны ни восприятие, ни память, ни даже само «Я».
Примеры и параллели:
– Мелодия: аналогичный пример у Бергсона (Творческая эволюция, 1907) для критики «кинематографического» времени.
– Ретенция и протенция: ср. с хайдеггеровскими «экстазами» временности.
– Критика психологизма: продолжение темы Логических исследований (1900–1901).
Источники:
– Husserl, E. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893–1917).
– Augustine. Confessiones, XI.
– Heidegger, M. Sein und Zeit (1927).
Третий раздел. Уровни конституции, относящиеся ко времени и временным объектам.
§ 34. Различение уровней конституции.Теперь, когда мы изучили временное сознание – начиная с его наиболее очевидных феноменов – в некоторых его основных измерениях и различных слоях, было бы полезно систематически выделить и последовательно рассмотреть различные уровни конституции в их существенной структуре.
Мы обнаружили:
1. Вещи эмпирического опыта в объективном времени (при этом следует различать еще разные уровни эмпирического бытия, которые до сих пор не принимались во внимание: переживаемая физическая вещь, принадлежащая индивидуальному субъекту; интерсубъективно тождественная вещь; вещь физики).
2. Конституирующие многообразия явлений, относящиеся к разным уровням, – имманентные единства в предэмпирическом времени.
3. Абсолютный временетворящий поток сознания.
§ 35. Различия между конституированными единствами и конституирующим потоком.Прежде всего, следует рассмотреть подробнее это абсолютное сознание, предшествующее всякой конституции. Его особенность отчетливо проявляется в сравнении с конституированными единствами, принадлежащими к самым разным уровням:
1. Каждый отдельный объект (каждое единство, будь то имманентное или трансцендентное, конституированное в потоке) длится и необходимо длится – то есть непрерывно существует во времени и является чем-то тождественным в этом непрерывном существовании, что одновременно может рассматриваться как процесс. И наоборот: то, что существует во времени, непрерывно существует во времени и представляет собой единство, принадлежащее процессу, который неразрывно несет в себе единство того, что длится в процессе его развертывания. Единство тона, длящегося на протяжении процесса, заключено в тональном процессе; и наоборот, единство тона есть единство в наполненной длительности, то есть в процессе. Поэтому если что-либо определяется как существующее в момент времени, оно мыслимо только как фаза процесса – фаза, в которой длительность индивидуального бытия также имеет свою точку.
2. Индивидуальное или конкретное бытие необходимо является изменяющимся или неизменным; процесс есть процесс изменения или покоя, а длящийся объект сам есть изменяющийся или покоящийся объект. Более того, каждое изменение имеет свою скорость или ускорение изменения (если использовать образ) относительно той же длительности. В принципе, любая фаза изменения может быть развернута в покой, а любая фаза покоя может быть переведена в изменение.
Если же мы рассмотрим конституирующие феномены в сравнении с только что обсужденными, то обнаружим поток, каждая фаза которого есть непрерывность абрисов. Но в принципе ни одна фаза этого потока не может быть развернута в непрерывную последовательность; поэтому поток нельзя представить себе так преобразованным, чтобы эта фаза была продлена в тождестве с самой собой. Напротив, мы необходимо находим поток непрерывного «изменения», и это измененение обладает абсурдным характером: оно течет именно так, как течет, и не может течь ни «быстрее», ни «медленнее». Если это так, то здесь отсутствует какой-либо изменяющийся объект; и поскольку в каждом процессе «нечто» протекает, здесь не может идти речь о процессе. Здесь нет ничего, что изменялось бы, и поэтому бессмысленно говорить о чем-то длящемся. Следовательно, бессмысленно пытаться найти здесь что-либо, что оставалось бы неизменным даже на мгновение в течение своей длительности.
§ 36. Временетворящий поток как абсолютная субъективность.Таким образом, временетворящие феномены – это, очевидно, объективности, принципиально отличные от конституированных во времени. Они не являются ни индивидуальными объектами, ни индивидуальными процессами, и предикаты таких объектов или процессов не могут быть осмысленно приписаны им. Поэтому также бессмысленно говорить о них (и говорить с тем же значением), что они существуют в теперь и существовали ранее, что они следуют друг за другом во времени или являются одновременными друг с другом, и так далее.
Однако, без сомнения, мы можем и должны сказать: определенная непрерывность явления – то есть непрерывность, являющаяся фазой временетворящего потока – принадлежит теперь, а именно тому теперь, которое она конституирует; и предшествующему, а именно как то, что конституирует (мы не можем сказать «было») предшествующее.
Но разве поток не является последовательностью? Разве у него нет теперь, актуально присутствующей фазы и непрерывности прошлого, о котором я теперь сознаю в ретенциях? Мы не можем сказать ничего, кроме следующего: этот поток есть нечто, о чем мы говорим в соответствии с конституированным, но он не есть «нечто в объективном времени». Это абсолютная субъективность, обладающая абсолютными свойствами того, что можно метафорически обозначить как «поток»; того, что берет начало в точке актуальности, в изначальной точке-источнике, «теперь», и так далее. В переживании актуальности у нас есть изначальная точка-источник и непрерывность моментов отзвука. Для всего этого у нас нет имен.
§ 37. Явления трансцендентных объектов как конституированные единства.Кроме того, следует отметить, что когда мы говорим о «перцептивном акте» и утверждаем, что он есть точка подлинного восприятия, к которой присоединяется непрерывный ряд «ретенций», мы тем самым не описали никаких единств в имманентном времени, а лишь моменты потока.
То есть явление – скажем, явление дома – есть временное бытие, бытие, которое длится, изменяется и так далее, точно так же, как имманентный тон, который не является явлением. Но явление дома – это не перцептивное сознание и не ретенциональное сознание. Последнее может быть понято только как временетворящее сознание, как моменты потока.
Точно так же следует различать мнемическое явление (или вспоминаемый имманентный объект, возможно, вспоминаемый имманентный первичный контент) от мнемического сознания с его мнемическими ретенциями.
Везде мы должны различать:
– сознание (поток),
– явление (имманентный объект [Objekt]),
– трансцендентный объект [Gegenstand] (если имманентный объект не является первичным контентом).
Не всякое сознание отсылает к чему-то в «объективном» (то есть трансцендентном) времени, к объективной индивидуальности, как, например, сознание, принадлежащее внешнему восприятию. В каждом сознании мы находим «имманентный контент». В случае контентов, называемых «явлениями», этот имманентный контент есть либо явление чего-то индивидуального (чего-то во внешнем времени), либо явление чего-то вневременного.
Например, в суждении у меня есть явление «суждение» – как единство в имманентном времени; и в этом единстве «является» суждение в логическом смысле. Суждение всегда имеет характер потока.
Следовательно, то, что мы называли «актом» или «интенциональным переживанием» в «Логических исследованиях», в каждом случае есть поток, в котором конституируется единство в имманентном времени (суждение, желание и т. д.) – единство, обладающее своей имманентной длительностью и могущее протекать быстрее или медленнее. Эти единства, конституирующиеся в абсолютном потоке, существуют в имманентном времени, которое едино; и в этом времени единства могут быть одновременными или иметь равные длительности (или, возможно, одну и ту же длительность – в случае двух имманентных объектов, длящихся одновременно). Более того, единства обладают определенной определимостью относительно «раньше» и «позже».
§ 38. Единство потока сознания и конституирование одновременности и последовательностиМы уже занимались конституированием таких имманентных объектов, их формированием из новых первичных ощущений и их модификаций. Теперь в рефлексии мы обнаруживаем единый поток, который распадается на множество потоков, однако это множество обладает своего рода единством, позволяющим и даже требующим говорить об одном потоке. Мы находим множество потоков, потому что множество рядов первичных ощущений начинается и заканчивается. Но мы обнаруживаем и объединяющую форму, поскольку закон превращения теперь в уже-не-теперь – и, в обратном направлении, ещё-не-теперь в теперь – применим к каждому из них, но не только к каждому в отдельности; скорее существует нечто вроде общей формы теперь, всеобщего и совершенного подобия в способе течения. Несколько, множество первичных ощущений происходят «одновременно». И когда какое-либо из них истекает, множество истекает «совместно» и в абсолютно том же модусе, с абсолютно теми же градациями и в абсолютно том же темпе: за исключением того, что, как правило, одно прекращается, в то время как другое ещё имеет своё ещё-не перед собой – то есть свои новые первичные ощущения, которые продолжают длительность того, что в нём интендируется. Или, если описать это более адекватно: множество первичных ощущений истекает, и с самого начала они обладают одинаковыми модусами схождения, за исключением того, что ряды первичных ощущений, конституирующие длящиеся имманентные объекты, продлеваются различным образом, соответствуя различным длительностям имманентных объектов. Они не все используют формальные возможности одинаковым образом. Имманентное время конституируется как единое для всех имманентных объектов и процессов. Соответственно, временное сознание имманентного является всеобъемлющим единством.
«Совместность» [Zusammen], «одновременность» [Zugleich] актуально присутствующих первичных ощущений всеобъемлюща; всеобъемлюще также «прежде», «предшествование» всех непосредственно предшествующих первичных ощущений, постоянное превращение каждого ансамбля первичных ощущений в такое «прежде». Это «прежде» является континуумом, и каждая его точка представляет собой однородную, идентичную форму схождения для всего ансамбля. Вся «совместность» первичных ощущений подчинена закону, согласно которому она превращается в устойчивый континуум модусов сознания, модусов истечения, и согласно которому в том же континууме возникает всё новое «совместное» бытие первичных ощущений, чтобы, в свою очередь, непрерывно перейти в состояние истечения. То, что является «совместностью» как ансамбль первичных ощущений, остаётся «совместностью» в модусе истечения.
Первичные ощущения имеют свою непрерывную «последовательность» в смысле непрерывного истечения, и первичные ощущения имеют свою «совместность», свою «одновременность». Актуальные первичные ощущения существуют одновременно; в последовательности же одно ощущение или группа совместно существующих ощущений является актуальным первичным ощущением, в то время как другие уже истекли. Но что это означает? Здесь нельзя сказать ничего, кроме «взгляните»: первичное ощущение или группа первичных ощущений, имеющая имманентное теперь в качестве объекта сознания (теперь-тон, в том же теперь цвет и так далее), непрерывно изменяется в модусы сознания «прежде», в котором имманентный объект интендируется как прошлый; и «одновременно» с этим возникает всё новое первичное ощущение, устанавливается всё новое теперь, и тем самым интендируется всё новое теперь-тон, теперь-форма и так далее.
В группе первичных ощущений первичное ощущение отличается от первичного ощущения по содержанию; только теперь является тем же самым. Сознание в своей форме как сознание первичного ощущения идентично. Однако «вместе» с сознанием первичного ощущения существуют непрерывные ряды модусов, относящихся к истечению «предшествующих» первичных ощущений, предшествующего теперь-сознания. Эта «совместность» является совместностью модусов сознания, непрерывно модифицированных в отношении формы, в то время как совместность первичных ощущений – это совместность модусов, чисто идентичных по форме. Мы можем выделить точку в континууме модусов истечения и тогда обнаружим в этой точке также совместность модусов истечения, совершенно схожих по форме; или, скорее, мы обнаружим идентичный модус истечения.
Необходимо провести существенное различие между этими двумя ансамблями. Один является местом конституирования одновременности, другой – местом конституирования временной последовательности – хотя также верно, что одновременность ничто без временной последовательности, а временная последовательность ничто без одновременности, и, следовательно, одновременность и временная последовательность должны конституироваться коррелятивно и неразделимо. Мы можем терминологически различить ретенциональную совместность флюксий [fluxionalem Vor-Zugleich] и импрессиональную совместность флюксий [impressionalem Zugleich von Fluxionen]. Мы не можем назвать ни ту, ни другую совместность одновременностью. Мы больше не можем говорить о времени, принадлежащем предельно конституирующему сознанию. Одновременность цвета и тона, например – их бытие в «актуально настоящем теперь» – изначально конституируется с первичными ощущениями, которые вводят ретенциональный процесс. Но сами первичные ощущения не являются одновременными, и мы не можем назвать фазы ретенциональной совместности флюксий одновременными фазами сознания, так же как не можем назвать последовательность сознания временной последовательностью.
Мы знаем из наших предыдущих анализов, что такое ретенциональная совместность: это континуум фаз, примыкающих к первичному ощущению, каждая из которых является ретенциональным сознанием предшествующего теперь («первоначальной памятью» о нём). Здесь мы должны отметить: когда первичное ощущение отступает и непрерывно модифицируется, мы не только имеем в целом переживание, которое является модификацией предшествующего переживания, но также можем обратить наш взгляд в нём таким образом, что мы «видим», так сказать, предшествующее немодифицированное переживание в модифицированном. Когда проходит тональная последовательность (не слишком быстро), мы не только можем «смотреть» на первый тон после его истечения как на тон, который «всё ещё присутствует», хотя уже не ощущается, но также можем заметить, что модус сознания, которым этот тон теперь обладает, является «памятью» о модусе сознания первичного ощущения, в котором он был дан как теперь. Но тогда мы должны резко различать между сознанием прошлого (ретенциональным сознанием, а также сознанием, которое представляет что-то «снова»), в котором имманентный временной объект интендируется как непосредственно прошлый, и ретенцией или (в зависимости от того, идёт ли речь об исходном потоке модификации ощущения или его репрезентации) «репродукцией» воспоминания о предшествующем первичном ощущении. И это мы должны делать для каждой другой флюксии.
Если какая-либо фаза длительности имманентного объекта является теперь-фазой и, следовательно, интендируется в первичном ощущении, то в ретенциональной совместности с этим первичным ощущением объединены ретенции, непрерывно соединённые друг с другом. Эти ретенции характеризуются в самих себе как модификации первичных ощущений, принадлежащих всем остальным точкам конституированной длительности; то есть тем, которые истекли во времени. Каждая из этих ретенций имеет определённый модус, которому соответствует временная дистанция от точки теперь. Каждая является сознанием прошлого соответствующей предшествующей точки теперь и даёт её в модусе непосредственного прошлого, соответствующего её позиции в истекшей длительности.
§ 39. Двойная интенциональность ретенции и конституирование потока сознанияДвойственность в интенциональности ретенции даёт нам ключ к решению трудности, касающейся того, как возможно осознавать единство, принадлежащее предельному конституирующему потоку сознания. Без сомнения, здесь действительно возникает трудность: если замкнутый поток (принадлежащий длящемуся процессу или объекту) истёк, я тем не менее могу оглянуться на него; он образует, как кажется, единство в памяти. Следовательно, поток сознания, очевидно, тоже конституируется в сознании как единство. Единство тональной длительности, например, конституируется в потоке, но сам поток, в свою очередь, конституируется как единство сознания тональной длительности. И разве мы не должны тогда также продолжать и говорить, что это единство конституируется совершенно аналогичным образом и в такой же мере является конституированным временным рядом, и что поэтому, несомненно, следует говорить о временном теперь, прежде и после?



