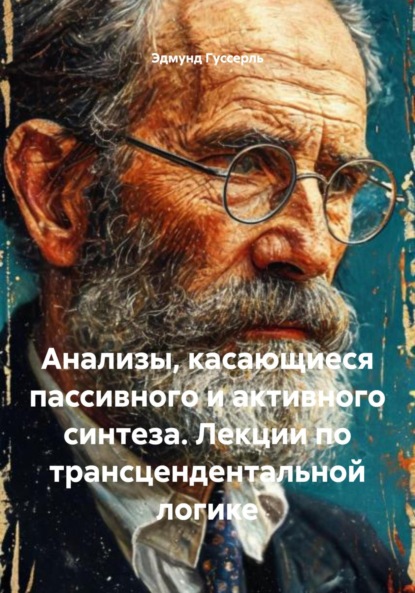
Полная версия:
Анализы, касающиеся пассивного и активного синтеза. Лекции по трансцендентальной логике
Но теперь крайне важно избежать одного недоразумения. Воспринимаемое дерево, пока мы живем в наивном восприятии, естественно и просто дано нам как существующая реальность: по крайней мере, в нормальном случае восприятия, который здесь предполагается, то есть когда нет мотивации для сомнения или отрицания. Конечно, это не исключает того, что мы можем оказаться обманутыми. Если бы это было не так, если бы восприятие не обладало своей неоспоримой легитимностью, которая может быть подтверждена дальнейшим опытом, дерево существовало бы как действительная часть природы. И наоборот: если дерево действительно существует, восприятие обладает своей демонстрируемой легитимностью в форме возможных актов подтверждающего удостоверения. Оба положения очевидно эквивалентны. Теперь важно отметить, что объективный смысл восприятия – это отнюдь не то же самое, что действительный воспринимаемый объект, смысл восприятия дерева – отнюдь не то же самое, что действительный природный объект, дерево. Когда мы говорим о смысле, нас вовсе не интересует, осуществил ли воспринимающий легитимное восприятие, которое он или кто-либо другой может подтвердить новыми опытами. Мы спрашиваем лишь о том, что перцептивные переживания несут в себе по своей сути и что они как восприятия несут в себе неотвратимо, независимо от того, каким будет суждение об их легитимности, признающее ее или оспаривающее. Иначе говоря, мы не спрашиваем, имеет ли это дерево – дерево, которое воспринимающий наивно видит (и не просто данное ему в общем виде, но полагаемое им с уверенностью в его существовании), – место в природе, в совокупности реальностей, которые следует полагать легитимно.
Нам безразлично, происходит ли в сфере возможных полаганий объекта, подлежащего обоснованию как легитимный, такое полагание, которое согласуется или не согласуется с нашим восприятием в его смысловом содержании. Как бы то ни было, несомненно, что восприятие имеет в себе то, что ему является как таковое, имеет свой интендированный в восприятии объект, и что несколько восприятий с разными перцептивными содержаниями согласуются в нем очевидным образом и согласно очевидной тождественности. Мы можем выразить это и так: восприятие есть интенциональное переживание и имеет имманентно, в себе, интенциональный объект как неотделимый смысл. Если мы выносим суждение об этом смысле, то мы судим о чем-то, что может быть очевидно продемонстрировано и, следовательно, обладает бытием, но имманентным бытием, даже если позже окажется, что восприятие было обманчивым. Смещая наше словоупотребление, говорят о воспринимаемом объекте только там, где претендуют на суждение о реальности, как во всех нормальных перцептивных суждениях об окружающих вещах, а не просто об имманентных объектах, например, о воспринимаемом дереве как таковом. Никто не станет спорить, что в реальности нет соответствия этому дереву, которое я, например, во сне вижу перед собой как действительно здесь и во плоти.
То, что обозначается там как «дерево», очевидно, есть имманентный смысловой содержание самого восприятия, а смысловое содержание – это не дерево, не вещь как таковая; то есть это не вещь в фактической природе. Следовательно, здесь произошел сдвиг значения, и – поскольку все подобные сдвиги обычно обозначаются в письменной форме кавычками – я также привык выражать этот сдвиг как различие между «деревом» в кавычках и деревом просто. Это весьма похоже на то, как мы говорим, например: «Сократ – философ», а в другой раз: «Сократ» – это имя собственное». В последнем случае мы используем кавычки, чтобы яснее показать, что говорим не о самом Сократе, а о слове «Сократ».
Таким образом, наши рассуждения привели нас к фундаментальному различению, сначала в отношении особой фундаментальной формы сознания, которую мы называем восприятием.
(1) Полное, конкретное переживание восприятия. У нас не было повода говорить о многом, что сюда относится; например, когда речь шла о тематическом восприятии, о моменте направленности на объект, исходящей от чистого Я. В частности, затем:
(2) Изменчивое многообразие явлений, аспектов, необходимо принадлежащих каждой фазе восприятия, но объединенных в непрерывности восприятия посредством своеобразного синтеза, своего рода «совпадения», синтеза, благодаря которому феноменально различаемые и, возможно, совершенно различные аспекты образуют единство в очевидном сознании того же самого объекта. Я – переживающий – знаю о бытии этого переживания и о его различных модификациях только благодаря рефлексивному изменению перспективы, через которое я тематически схватываю его и затем тематически сужу о нем.
(3) Этот же самый объект, объект в кавычках; то, что является одним и тем же являющимся объектом в каждом из этих явлений, то, что означает каждое явление, интенциональный объект как таковой.
Введение понятия смысла неясно. Сначала смысл вводится как интенциональный объект, то, что мыслится или интендируется как таковое. Это двусмысленно, как и объект в кавычках. Когда я осуществляю феноменологическую редукцию, я имею для каждого «акта» его интендированный объект, интенциональный объект, который содержит в себе все модусы бытия, который есть «бытие».
Но затем это сводится к расколу между интенциональным содержанием и интенциональным модусным характером, что сначала выглядит как различие между двумя компонентами. Интенциональное содержание в этом смысле, «материя», «качество», есть также «интенциональный объект», то, что просто представлено, что там модусно квалифицировано.
Это совершенно иное понятие смысла и интенционального объекта. Все это прояснится в дальнейшем изложении, но с самого начала нужно двигаться правильным путем и проводить различия, даже если они пока лишь предварительные.
Часть 2: Анализ пассивного синтеза: к трансцендентальной эстетике.
Самоданность в восприятии.
Аналитический обзор части 2.В данном фрагменте Гуссерль исследует фундаментальные структуры восприятия, раскрывая его трансцендентально-феноменологическую природу. Центральной темой является пассивный синтез – дорефлексивный процесс, посредством которого сознание конституирует объекты как единства в потоке явлений. Ключевой проблемой выступает неадекватность внешнего восприятия: пространственный объект никогда не дан целиком, но всегда лишь через перспективные абрисы (аспекты), отсылающие к бесконечному горизонту возможных явлений.
Самоданность и горизонтность восприятия.
Гуссерль подчёркивает, что восприятие – это "постоянное притязание на осуществление невозможного", поскольку объект не может явиться во всей полноте своих свойств. Например, стол воспринимается лишь с одной стороны, тогда как его задняя часть, внутренняя структура и другие аспекты остаются "соприсутствующими" в сознании как пустые интенции. Это "существенное противоречие" между данным и не-данным структурирует саму возможность восприятия трансцендентных (внешних) объектов.
Здесь Гуссерль вводит понятия:
– Ноэзис (активная сторона сознания): смешение эксплицитного схватывания аспектов и пустых указаний на возможные восприятия.
– Ноэма (смысловая сторона): объект как тождественное X, объединяющее актуальные и потенциальные явления.
Этот анализ перекликается с кантовской идеей о том, что вещь-в-себе недостижима для сознания (Кант, Критика чистого разума), но Гуссерль идёт дальше, показывая, как интенциональность конституирует объект через горизонты ожиданий.
Роль кинестезиса и свободы.
Особое внимание уделяется кинестетическим мотивациям – движениям тела (глаз, головы, перемещения в пространстве), которые организуют поток явлений. Например, поворот головы актуализирует новые аспекты стола, связывая их в единый синтез. Гуссерль отмечает, что сознание обладает свободой ("я могу") управлять этими процессами, но сами явления зависят от закономерностей синтеза.
Этот момент развивает идеи Беркли о роли телесного опыта в восприятии (Трактат о принципах человеческого знания), но Гуссерль добавляет трансцендентальное измерение: кинестезисы не просто сопровождают восприятие, а конституируют его временнýю и пространственную структуру.
Esse и percipi: различие имманентного и трансцендентного.
Гуссерль противопоставляет:
– Имманентные объекты (например, переживание боли): их esse совпадает с percipi – они даны абсолютно, без горизонтов.
– Трансцендентные объекты (например, стол): их esse принципиально превышает percipi, так как они являются только через абрисы.
Здесь явно полемика с картезианским дуализмом и британским эмпиризмом: если Декарт сомневался в достоверности внешнего мира (Размышления о первой философии), а Юм сводил его к пучкам впечатлений (Трактат о человеческой природе), то Гуссерль показывает, что трансцендентность – не недостаток, а сущностная черта восприятия, обеспечивающая конституирование объективности.
Идея "полного определения" и проблема скептицизма.
Гуссерль признаёт, что полное знание объекта – это "идея в бесконечности", недостижимая из-за бесконечности горизонтов. Однако это не ведёт к скептицизму: в практической жизни мы достигаем "оптимумов" (например, рассматривая дом с "удобной" точки зрения), которые позволяют считать объект данным "достаточно". Этот момент предвосхищает хайдеггеровскую концепцию Zuhandenheit (Хайдеггер, Бытие и время), где вещи раскрываются в соответствии с прагматическими интересами.
Критика "абсурдных" допущений.
Гуссерль отвергает возможность адекватного восприятия трансцендентного объекта даже для "Бога" – это противоречило бы самой сути пространственности. Такой аргумент направлен против схоластических представлений о божественном интеллекте, схватывающем вещи целиком (ср. Фома Аквинский, Сумма теологии).
Генетическая феноменология и конституция смысла.
В завершении фрагмента намечается переход к генетической феноменологии: исследованию того, как в истории сознания складываются интенциональные системы, позволяющие конституировать мир. Это связывает анализ пассивного синтеза с проблемами интерсубъективности (позже развитыми в артезианских размышлениях).
Заключение.
Гуссерль раскрывает восприятие как динамический процесс, где объект конституируется через "смесь исполнения и пустоты". Его анализ предвосхищает многие темы современной философии сознания (например, enactive cognition), оставаясь в рамках трансцендентальной парадигмы. Ключевой вывод: трансцендентность – не ошибка восприятия, а условие его возможности.
Источники для углублённого изучения:
1. Husserl, E. Analysen zur passiven Synthesis (1918–1926).
2. Kant, I. Kritik der reinen Vernunft (1781).
3. Heidegger, M. Sein und Zeit (1927).
4. Merleau-Ponty, M. Phénoménologie de la perception (1945) – развитие гуссерлевской теории телесности.
§1. Изначальное сознание и перспективное абрисирование пространственных объектов.Внешнее восприятие – это постоянное притязание на осуществление того, что по самой своей природе оно не в состоянии осуществить. Таким образом, в нём заключено, так сказать, существенное противоречие. Моя мысль скоро станет вам ясна, как только вы интуитивно ухватите, как объективный смысл проявляет себя как единство в бесконечных многообразиях возможных явлений; и при более внимательном рассмотрении – как непрерывный синтез, как единство совпадения, позволяет этому смыслу являться, и как сознание всё новых возможностей явления постоянно сохраняется поверх фактических, ограниченных потоков явлений, трансцендируя их.
Начнём с того, что аспект, перспективное абрисирование, через которое неизбежно является всякий пространственный объект, проявляет его лишь с одной стороны. Как бы полно мы ни воспринимали вещь, она никогда не дана в восприятии со всеми своими чувственно-материальными характеристиками сразу, со всех сторон. Мы не можем избежать того, чтобы говорить о тех или иных сторонах объекта, которые действительно воспринимаются. Каждый аспект, каждая непрерывность единичных абрисов, сколь бы далеко она ни простиралась, предлагает нам лишь стороны. И для нас это не просто констатация факта: немыслимо, чтобы внешнее восприятие исчерпало чувственно-материальное содержание воспринимаемого объекта; немыслимо, чтобы воспринимаемый объект мог быть дан во всей полноте своих чувственно-интуитивных черт, буквально, со всех сторон сразу, в завершённом восприятии.
Таким образом, это фундаментальное разделение между подлинно воспринимаемым и неподлинно воспринимаемым принадлежит изначальной структуре корреляции: внешнее восприятие и телесный «объект». Когда мы смотрим на стол, мы видим его с какой-то определённой стороны, и эта сторона является тем, что подлинно видимо. Однако у стола есть и другие стороны. У него есть невидимая задняя сторона, невидимая внутренняя часть; и всё это – индексы множества сторон, множества комплексов возможной видимости. Это весьма своеобразная ситуация, присущая самой сути дела. Ибо в самом смысле всякого восприятия заложено, что воспринимаемый объект как его объективный смысл – это именно вещь, стол, который видится. Но эта вещь – не [просто] сторона, подлинно видимая в данный момент; напротив (согласно самому смыслу восприятия), вещь – это именно целое, у которого есть другие стороны, стороны, не данные в подлинном восприятии здесь и сейчас, но которые могли бы быть даны в других восприятиях.
Вообще говоря, восприятие есть изначальное сознание. Однако во внешнем восприятии мы имеем любопытный раскол: изначальное сознание возможно только в форме действительного и подлинно изначального сознавания сторон и со-сознавания других сторон, которые как раз не даны изначально. Я говорю «со-сознавание», поскольку невидимые стороны, несомненно, тоже каким-то образом присутствуют для сознания, «со-означены» как соприсутствующие. Но они не являются подлинно, как таковые. Они не даны так, как даны репродуктивные аспекты – в виде интуиций, их проявляющих; тем не менее, мы в любой момент можем произвести такие интуитивные презентификации. Глядя на переднюю сторону стола, мы можем по желанию развернуть интуитивный ход презентации, репродуктивный поток аспектов, через который невидимая сторона вещи явилась бы нам. Но здесь мы не делаем ничего иного, кроме как представляем себе ряд восприятий, в которых мы видели бы объект – переходя от одного восприятия к новым – с всё новых сторон в изначальных аспектах. Однако это происходит лишь в исключительных случаях. Очевидно, что неинтуитивное указание за пределы или индикация – вот что характеризует действительно видимую сторону как всего лишь сторону и обеспечивает то, что сторона не принимается за саму вещь, но, напротив, в сознании интендируется нечто, выходящее за её пределы, как воспринимаемое, благодаря чему эта сторона и видится.
Ноэтически восприятие есть смешение действительного экспонирования, представляющего в интуитивной манере изначально являемое, и пустого указания, отсылающего к возможным новым восприятиям. В ноэматическом отношении воспринимаемое дано в абрисах таким образом, что данность отсылает к чему-то ещё, не-данному, как принадлежащему тому же самому объекту. Нам предстоит понять смысл этого.
Прежде всего отметим, что каждое восприятие, или, ноэматически говоря, каждый отдельный аспект объекта, сам по себе указывает на континуум, на многообразные континуумы возможных новых восприятий, и именно тех, в которых тот же самый объект являл бы себя с новых сторон. В каждый момент восприятия воспринимаемое есть то, что оно есть, в своём модусе явленности как система отсылающих импликаций с ядром явления, за которое цепляются явления. И оно как бы взывает к нам в этих отсылках:
«Здесь ещё есть что увидеть, поверни меня, чтобы увидеть все мои стороны, проведи взглядом по мне, приблизься ко мне, раскрой меня, раздели меня; продолжай снова и снова осматривать меня, поворачивая, чтобы увидеть все стороны. Так ты узнаешь меня, всё, что я есть, все мои внешние качества, все мои внутренние чувственные свойства» и т. д.
Вы понимаете, что я хочу передать этим образным языком. В конкретном актуальном восприятии у меня есть именно эти аспекты и их модификации, и никакие другие, именно эти, всегда ограниченные аспекты. В каждый момент объективный смысл один и тот же относительно объекта как такового, объекта, который имеется в виду; и он совпадает с непрерывным потоком мгновенных явлений, как, например, этот стол здесь. Но тождественное – это постоянное x, постоянный субстрат актуально являющихся «столовых моментов», но также и указаний на ещё не являющиеся моменты. Эти указания одновременно являются тенденциями, индикативными тенденциями, толкающими нас к не данным явлениям. Однако это не отдельные указания, а целые индикативные системы, указания, функционирующие как системы лучей, указывающих на соответствующие многообразные системы явлений. Это указания в пустоту, поскольку неактуализированные явления не сознаются ни как актуальные, ни как презентифицированные.
Иначе говоря, всё, что подлинно является, есть являющаяся вещь лишь благодаря тому, что переплетено и пронизано интенциональным пустым горизонтом, то есть благодаря тому, что окружено ореолом пустоты в отношении явления. Это пустота, которая – не ничто, а пустота, подлежащая наполнению; это определимая неопределённость. Ибо интенциональный горизонт не может быть наполнен как угодно; это горизонт сознания, который сам обладает фундаментальным признаком сознания как сознания чего-то.
Несмотря на свою пустоту, смысл этого ореола сознания есть предвосхищение, предписывающее правило для перехода к новым актуализирующим явлениям. Видя переднюю сторону стола, я также сознаю заднюю сторону, наряду со всем невидимым, через пустое предуказание, пусть и довольно неопределённое. Но сколь бы неопределённым оно ни было, это всё же указание на телесную форму, на телесную окраску и т. д. И только явления, абрисирующие вещи такого рода и уточняющие неопределённое в рамках этого предвосхищения, могут быть согласованно интегрированы; только они могут удерживать течение тождественного x определения как одного и того же, определяемого здесь заново и точнее.
Это верно для каждой фазы восприятия в потоке воспринимающего процесса, для каждого нового явления, с той лишь разницей, что интенциональный горизонт изменился и сместился. Каждой явленной вещи каждой перцептивной фазы присущ новый пустой горизонт, новая система определимой неопределённости, новая система прогрессирующих тенденций с соответствующими возможностями вступления в определённо упорядоченные системы возможных явлений, возможных ходов аспектов, вместе с горизонтами, неразрывно связанными с этими аспектами. В согласованном совпадении смысла они приводили бы тот же самый объект к актуальной, исполняющей данности, всё снова определяя его.
Для нас аспекты – ничто сами по себе; они суть явления-чего лишь благодаря интенциональным горизонтам, от которых неотделимы.
Тем самым мы дополнительно различаем внутренний и внешний горизонты соответствующего аспектного явления. Следует осознать, что разделение между подлинно воспринимаемым и соприсутствующим влечет за собой различие между определениями содержания объекта:
[a] теми, что фактически даны, явлены во плоти, и
[b] теми, что остаются неопределённо предвосхищёнными в полной пустоте.
Отметим также, что само фактически являющееся несёт в себе аналогичное различение. Действительно, призыв звучит даже в отношении уже увиденной стороны:
«Приблизься ещё, ещё ближе; теперь зафиксируй взгляд на мне, меняя положение, угол зрения и т. д. Ты увидишь во мне нечто новое – новые оттенки, структуры дерева, ранее невидимые, которые до этого были даны лишь неопределённо и обобщённо».
Таким образом, даже уже увиденное пронизано интенцией предвосхищения. Оно – уже увиденное – постоянно «здесь» как каркас, предуказывающий нечто новое; это X, подлежащий дальнейшему определению. Идёт непрерывный процесс предвосхищения, предпонимания. Помимо этого внутреннего горизонта существуют и внешние горизонты – предвосхищения того, что лишено интуитивно данной структуры и требует лишь более детализированных способов схватывания.
§2. Соотношение наполненности и пустоты в процессе восприятия и обретение знания.Для углублённого понимания необходимо проследить, как наполненность и пустота соотносятся в каждый момент, как пустота усваивает наполненность в потоке восприятия и как наполненность вновь становится пустотой. Важно постичь структуру взаимосвязей каждого явления, а также структуру, объединяющую все ряды явлений.
В непрерывном течении восприятия, как и в любом акте восприятия, присутствуют протенции, постоянно наполняемые новым содержанием, возникающим в форме первично-импрессионального Сейчас. При этом с каждым шагом внешнего восприятия протенция принимает форму непрерывных исполняющихся предвосхищений. То есть из индикативных систем горизонтов определённые линии актуализируются как ожидания, которые затем исполняются в аспектах, получающих более точное определение.
В предыдущей лекции мы рассмотрели единство внешнего восприятия с разных сторон. Внешнее восприятие – это временной поток переживаний, где явления согласованно переходят друг в друга, образуя единство совпадения, соответствующее единству смысла. Этот поток можно понять как систематическую сеть прогрессирующего наполнения интенций, которое, если взглянуть с другой стороны, сопровождается опустошением уже наполненных интенций.
Каждый мгновенный этап восприятия сам по себе представляет сеть частично наполненных и частично пустых интенций. Даже в полностью явленных фазах остаётся неопределённый внутренний горизонт, подлежащий дальнейшему определению, а также совершенно пустой внешний горизонт, стремящийся к наполнению через пустое предвосхищение.
§3. Возможность свободного распоряжения приобретённым знанием.Перцепция не только изначально обретает знание, но и сохраняет его как постоянное владение, которым можно свободно распоряжаться. Как это возможно? Даже если знакомый объект стал «пустым» (например, исчез из поля зрения), он остаётся в моём распоряжении, поскольку пустая ретенция может быть в любой момент наполнена через повторное восприятие (узнавание).
Этот принцип распространяется и на новые объекты: если новый предмет схож с уже знакомым, он апперцептивно получает те же характеристики, что и предыдущий, благодаря ассоциации по сходству. Таким образом, предвосхищающее знание становится свободно доступным в форме актуализирующего восприятия.
Но что делает возможным это свободное распоряжение? Рассмотрим базовый случай – конституирование неизменных пространственных вещей. (Вопрос об изменяющихся объектах требует более высокого уровня анализа.)
Свободное распоряжение уже приобретённым (пусть и неполным) знанием возможно потому, что:
1. Ретенция удерживает исчезающие из восприятия аспекты, сохраняя их в тематическом сознании.
2. Пустые интенции (например, память о невидимой стороне предмета) имеют теперь артикулированный смысл, в отличие от изначальной неопределённости.
3. Повторное восприятие приводит не к новому определению, а к узнаванию – подтверждению уже известного.
Таким образом, трансцендентное восприятие (восприятие внешнего мира) возможно только благодаря этой структуре, обеспечивающей устойчивый мир, всегда доступный для познания.
Из сказанного выше мы видим, что каждое восприятие неявно предполагает целую систему восприятия; каждый возникающий в нём образ подразумевает целую систему образов, а именно – в форме интенциональных внутренних и внешних горизонтов. Мы не можем даже представить такой способ явленности, при котором являющийся объект был бы дан полностью. Никакое окончательное данное в плоти представление никогда не достигается в модусе явленности так, будто бы оно являет исчерпывающее, полное «я» объекта. Каждый образ подразумевает plus ultra в пустом горизонте. И поскольку восприятие действительно претендует на то, чтобы давать объект [полностью] в плоти в каждом образе, оно по своей сути постоянно обещает больше, чем может выполнить.
Особым образом всякая перцептивная данность представляет собой постоянное смешение знакомого и незнакомого – данность, указывающую на новые возможные восприятия, которые привели бы к узнаванию. И это будет продолжаться, разворачиваясь по-новому, иначе, чем то, что уже проявилось к настоящему моменту.
Давайте теперь рассмотрим формирование единства через совпадение в отношении смысла, изучая переход образов, например, при приближении к объекту или обходе его, а также при движении глаз. Фундаментальное отношение в этом динамическом переходе – это отношение интенции и исполнения. Пустое предуказание обретает соответствующую наполненность. Оно соответствует более или менее богатым предвосхищаемым возможностям; но поскольку его природа – это определимая неопределённость, оно также привносит вместе с исполнением более точное определение. Таким образом, здесь мы имеем новое «первичное установление» или, как можно сказать, первичное впечатление, поскольку возникает момент первичной оригинальности. То, что уже дано сознанию в первично-импрессиональной форме, указывает через свой ореол на новые модусы явленности, которые, возникая, проявляются частично как продолжающие, частично как уточняющие.



