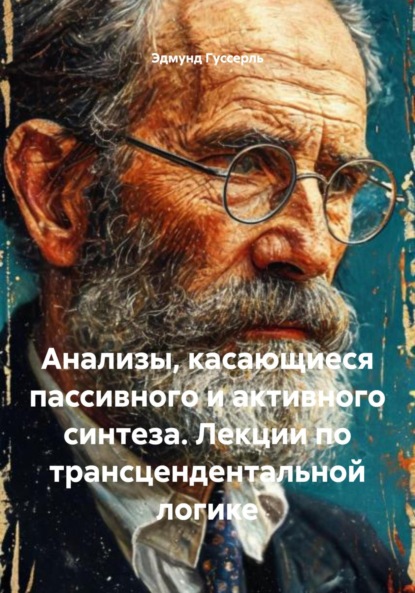
Полная версия:
Анализы, касающиеся пассивного и активного синтеза. Лекции по трансцендентальной логике
Язык как система знаков – знаков, которыми выражаются мысли, в отличие от других типов знаков – предоставляет нам в целом и во многих отношениях тонкие и удивительные проблемы. Одна из этих проблем – идеальность языка, с которой мы только что столкнулись и которая обычно полностью упускается из виду. Мы можем также охарактеризовать это следующим образом: язык обладает объективностью предметных образований, так называемого духовного или культурного мира, а не объективностью чисто физической природы. Как объективное духовное образование, язык обладает теми же чертами, что и другие духовные образования: так, мы отличаем от тысячи воспроизведений гравюры саму гравюру, и эта гравюра, то есть само гравированное изображение, интуитивно считывается с каждого воспроизведения и дана в каждом из них как идентично идеальная. Точно так же, когда мы говорим о «Крейцеровой сонате» в отличие от любого из ее произвольных воспроизведений. Даже если сама соната состоит из звуков, она представляет собой идеальное единство, и ее звуки – не менее идеальное единство; это, например, не физикалистские звуки или даже звуки внешнего, акустического восприятия: чувственные, вещеподобные звуки, которые действительно доступны только в актуальном воспроизведении и интуиции их. Подобно тому, как соната воспроизводится снова и снова в реальных воспроизведениях, так и звуки воспроизводятся снова и снова с каждым отдельным звуком сонаты в соответствующих звуках воспроизведения. То же самое справедливо и для всех языковых образований; действительно, речь здесь идет не о том, что они выражают (какую бы большую роль это ни играло). Если рассматривать их как речь, наполненную смыслом, то, конечно, они также представляют собой конкретные единства «тела» языка и выраженного смысла, но это касается их уже в отношении их самой «телесности», которая, так сказать, уже является духовной телесностью. Само слово, само грамматическое предложение, как мы видели, есть идеальное единство, которое не дублируется в своих тысячекратных воспроизведениях.
Тот, кто выражает себя, живет в действенной практической интенции выразить ту или иную точку зрения. Это не следует понимать так, будто он сначала формирует мнение эксплицитно и лишь затем ищет подходящие слова для его выражения. Мы различаем случаи, когда человек говорит другому коммуникативно, и случаи, когда он не обращается ни к кому, мысля в одиночестве, выражая себя монологически. В первом случае пониманию и со-мыслию другого, к которому обращаются, соответствует речь; в другом случае этого нет.
В уединенном мышлении, когда человек выражает себя самому себе, конечно, не бывает так, что мы сначала формируем мысль, а затем ищем подходящие слова. Мышление с самого начала осуществляется как языковое. То, что в нашем практическом горизонте предстает как нечто, что нужно «оформить», – это еще неопределенная идея образования, которое уже является языковым. Мысль, которую мы имеем в виду и которую внутренне выражаем, уже многозначна, хотя и определена неполным образом.
Всякая осмысленная речь как конкретное единство языкового тела и языкового смысла есть «духовное образование».
Основные обсуждения великих проблем, касающихся прояснения смысла и так называемой трансцендентальной конституции объективностей духовного мира во всех их фундаментальных формах – и среди них языка, – составляют отдельную область. Здесь достаточно отметить, что язык становится темой для логиков в первую очередь только в своей идеальности, как идентичное грамматическое слово, как идентичное грамматическое предложение и связь предложений поверх актуальных или возможных реализаций: совершенно аналогично тому, как темой эстетика является конкретное произведение искусства, конкретная соната, конкретная картина – сама картина «как таковая» и т. д., а не преходящий физический комплекс тонов или физическая вещеподобная картина.
Если бы было обнаружено абсолютно точное воспроизведение произведений искусства всех видов, которое повторяло бы идеальное содержание произведения с абсолютной несомненностью, то оригиналы потеряли бы всю свою ценность научной привилегии для эстетика; они сохранили бы лишь аффективную ценность: подобно оригинальным литературным текстам после того, как они были точно воспроизведены в отношении их языковой композиции.
Мы не в состоянии обсуждать здесь, в какой степени аналогичное справедливо для всех наук о культурных образованиях, а затем, в какой степени необходимо переходить к изучению реализаций в связи с вопросами исторического генезиса духовных образований культурного мира; так, например, в каком смысле лингвистическая теория должна заниматься вопросами акустики, чтобы прояснить генезис словесного состава языков. Но ясно, что с того момента, как лингвист становится грамматистом, перед ним уже стоит слово в его идеальном единстве.
И то же самое справедливо для логика, для логика в первичном смысле, чьей темой является логос как теория. Действительно, это уже требует сосредоточения на том, что выражено языковым образом.
4. Мышление как смыслообразующее переживание.Теперь обратимся ко второму термину, который мы обозначили: "мышление" – слово, смысл которого должен быть извлечен из контекста, в котором оно так часто употребляется: «язык и мышление». В таком случае этот термин приобретает чрезвычайно широкое значение, почти охватывающее всю психическую жизнь человека: ведь мы привыкли говорить, что «человек выражает свою психическую жизнь в языке».
Однако здесь необходимо быть более внимательными. На самом деле человек не «выражает» всю свою психическую жизнь в языке и не может выразить ее через него. Если принято говорить об этом иначе, то это связано с неоднозначностью самого понятия «выражение» и недостаточной ясностью относительно соответствующих отношений. Мы можем предварительно ограничить это употребление слова «выражение», указав, что каждое слово и каждое сочетание слов, образующее единство высказывания, что-то "означает" – по крайней мере, когда речь действительно является выразительной и функционирует нормально. Конечно, попугай или сорока не говорят в подлинном смысле. Мы также исключаем обманчивую речь или ложь, которая означает нечто иное, чем то, что говорится.
Единству высказывания соответствует «единство значения», а языковым членениям и формам высказывания – членения и образования смысла. Однако это не нечто внешнее или привнесенное в слова; скорее, в процессе говорения мы непрерывно осуществляем внутренний акт «означивания», который как бы сливается со словами, оживляя их. Результатом этого оживления является то, что слова и все высказывание воплощают в себе значение, несут его в себе как смысл.
Нам пока нет необходимости углубляться дальше, и мы можем предварительно ограничить первое и самое широкое значение мышления, а именно: оно должно охватывать те психические переживания, в которых состоит этот акт означивания – акт, в котором для говорящего субъекта (или, аналогичным образом, для слушающего, понимающего субъекта) конституируется значение, то есть смысл, выраженный в высказывании.
Например, если мы выносим суждение, утверждая, что «Германия вновь восстанет в славе», мы осуществили единство внутренне «осмысленного» утверждения с самими словами высказывания. Какие бы другие психические акты ни были совершены для того, чтобы возникли сами слова, и какую бы роль они ни играли в слиянии, порождающем «выражение», мы обращаем внимание только на то, что слито, – на судящие акты, которые функционируют как смыслополагающие, как несущие в себе смысл и тем самым конституирующие в себе сужденческое значение, находящее свое выражение в утвердительном предложении.
Таким образом, многие виды психических переживаний остаются вне рассмотрения. Не учитываются, например, индикативные тенденции, присущие словам, как и всем знакам, – феномены указания «от себя» и «в значение», феномены направленности на означаемое. Также не учитываются другие сопутствующие психические переживания, например те, в которых мы обращаемся к собеседнику, которому хотим сообщить наше суждение, и т. д. – но, разумеется, лишь в той мере, в какой характер обращения сам не выражен в высказывании (например: «Я говорю тебе…»).
То, что мы выяснили на примере утвердительного высказывания, имеет всеобщий характер. Если мы выражаем желание, например: «Да будет со мной Бог!», то наряду с артикулированным порождением слов будет присутствовать определенное "желание", которое выражается именно в артикулированной организации слов и которое, в свою очередь, имеет параллельный ему артикулированный содержательный момент. То же самое происходит, когда мы отдаем приказ, задаем вопрос и т. д.
В таком широком понимании "мышление" означает каждое переживание, которое в акте говорения принадлежит к первичной функции выражения, а именно – к функции выражения чего-либо; таким образом, это то переживание, в котором конституируется в сознании выражаемый смысл. Это и есть мышление, будь то суждение, желание, волеизъявление, вопрос или предположение.
Сохраним это самое широкое понятие (замечу сразу, что оно не совпадает с традиционно-логическим). Независимо от того, будем ли мы придерживаться этой общности, важно сначала зафиксировать ее и подвергнуть научному анализу.
Мы сразу же фиксируем универсальное соответствие языка и мышления. Теперь оно обозначает для нас две параллельные сферы: они соотносятся друг с другом как сфера возможных выражений и как сфера возможных смыслов, возможных означенных значений. В своем переплетенном единстве они образуют двустороннюю сферу актуального и конкретного высказывания, смыслонаполненной речи.
Таким образом, каждое утверждение есть одновременно речь и актуально означенное значение, точнее – сужденчески означенное значение; каждое выраженное желание есть одновременно оптативная речь и само актуальное желание, актуальное желаемое значение и т. д. В дальнейшем станет ясно, что здесь имеет место не просто дуальность, так что мы должны строго различать между актом означивания и означенным значением, между актом суждения и самим суждением – и так во всех случаях, что приводит к трехчленному отношению.
Мы исследуем, скорее, важный общий характер, присущий всем переживаниям, осуществляющим смыслополагание – везде, где выражения действительно выполняют свою выразительную функцию, то есть в нормальной речи и понимающем слушании.
5. Смыслообразующие переживания как акты Я.Все такие переживания суть не только модусы сознания вообще, но "акты Я" – и это мы хотим теперь прояснить.
В ходе нашей психической жизни бодрствование – лишь один из типов; помимо него есть и другой – глубокий сон без сновидений, бессознательность. Мы приходим к обоим этим типам в их противопоставлении, представляя актуальные переживания пробуждения, ретроспективно схватывая предшествующие фазы сознания в сравнении с самим бодрствованием. Даже если мы не можем сказать ничего более детального о содержании прошлого и о том, что переживалось в оцепенении, мы можем с очевидностью описать типическую сущность этого контраста.
При оцепенении тоже происходит некое переживание. Но там нет восприятия в подлинном смысле или переживания иного рода; нет познавательной темы, нет суждения; нет объекта эмоционального интереса; нет, строго говоря, объекта, который сейчас любят или ненавидят; нет желания или воления.
В чем же отличительная черта тех переживаний, которые в самом широком смысле (несомненно, непривычно широком) можно охарактеризовать как переживания интереса и которые отмечают бодрствующую психическую жизнь характером бодрствования?
Мы можем ответить: психическая жизнь бодрствует, то есть "Я" бодрствует, и это имеет место постольку, поскольку оно осуществляет в настоящем специфические "Я-функции", то есть выполняет в настоящем «я воспринимаю» – иными словами, обращается к объективному образованию, рассматривает его, видит, погружается в него; точно так же «я вспоминаю», погружаясь в созерцание вспоминаемого объекта; или «я сравниваю и различаю»; в сравнении я узнаю, что два разных воспринимаемых объекта обладают одним типом; или я склоняюсь к тому, чтобы любить, ценить, уважать кого-то, о ком думаю, или же обращаюсь против него с ненавистью и презрением; я осуществляю акт стремления, обдумываю средства, принимаю решение и действую.
Обратите внимание на то, как подчеркивается «я», "эго". В таких бодрствующих переживаниях восприятия, познания, умозаключения, оценки, воления мы находим "Я" как своеобразный центр переживания – как того, кто погружен в него или страдает от него осознанно; это тождественный полюс, центр действий и страстей (последние соответствуют состояниям вроде «мне грустно», «я восхищен», «я счастлив»).
Термин «Я» здесь не пуст, но, с другой стороны, мы не имеем в виду «Я» ни как телесного человека, ни как всю психическую жизнь, собственно, вообще ничего из жизни и живого. Скорее, здесь "эго" выявляется в рефлексии как центр жизни и переживания – центр, к которому относятся восприятие, суждение, чувство, воля. Но мы понимаем это так, что выражения «я воспринимаю», «я сужу», «я чувствую», «я хочу» обозначают одновременно сущностную форму самих этих переживаний, которая дана через их "эго-центрацию".
Здесь "эго" повсюду живет в этих актах как их осуществляющее, как относящееся через эти акты к воспринимаемому объекту, судимому объекту, волеизъявляемому объекту.
"Эго" – не ящик, содержащий «без-эговые» переживания, не доска сознания, на которой они вспыхивают и исчезают, не пучок переживаний, поток сознания или нечто в нем собранное; скорее, "эго", о котором идет речь, может проявляться в каждом бодрствующем переживании или акте переживания как полюс, как "эго-центр" и тем самым как включенное в своеобразную структуру этих переживаний. Оно может проявляться в них как их точка, излучающая вовне или вовнутрь, и все же не как их часть или кусок.
Это видно из того, что для тематического схватывания этой излучающей точки мы должны осуществить своеобразную рефлексию, идущую в противоположном направлении. Мы не находим ее как часть, как нечто внутри переживания или буквально на нем; скорее, структура переживания, его направленная структура, идущая к представленному, к желаемому и т. д., указывает назад на излучающую точку и на направленность этого "эго" к его интенциональной теме.
Здесь также очевидно, что все такие переживания, возникающие в этой отличительной форме "ego cogito", в единстве потока переживания, проявляют "тождественно то же самое эго": "Я", которое воспринимает, тождественно тому "Я", которое затем судит, чувствует, желает, хочет, – и только в силу этой тождественности я могу сказать, что все это "мои" акты.
Любопытная поляризация потока сознания! Все акты переживания центрированы в едином, полностью тождественном полюсе.
Только через рефлексивное схватывание этого центрального "эго" (которое, однако, схватывается лишь как субъект своих актов, как осуществляющий их субъект) всякое другое понятие "эго", даже понятие личного и психофизического человеческого "эго", получает свой смысл – независимо от того, сколько новых определяющих моментов могут включать эти новые понятия "эго".
Сказанное здесь прояснится далее, если мы отметим, что бодрствующая жизнь "эго" содержит не только такие "эготические" переживания, в которых центральное "эго" выступает как актуальный функциональный центр и тем самым придает своим переживаниям форму "ego cogito" (говоря словами Декарта).
Бодрствующая жизнь имеет, так сказать, "фон не-бодрствования" – постоянный и с вечной необходимостью. Когда я актуально воспринимаю объект, то есть смотрю на него, замечаю, схватываю, рассматриваю его, это никогда не происходит без незамеченного, не-схваченного фона объектов. В этом случае мы отличаем то, что замечено вторично, от того, что действительно остается незамеченным.
Вообще, помимо объекта, который первично замечен, которым я занят привилегированным образом при его рассмотрении, есть и другие единичные объекты, "со-замеченные" – будь то данные во втором или третьем порядке со-схватывания. Это происходит так, что при переходе от наблюдения одного объекта к наблюдению другого я, строго говоря, больше не смотрю на первый, не занят им первично, но все же удерживаю его, не выпускаю из внимательного и понятийного захвата – и вместе с ним все, что ранее схватил. Он продолжает принадлежать мне измененным образом, и таким образом я все еще удерживаю его.
Я все еще присутствую там как центральное, актуальное "эго"; как бодрствующее "эго", я все еще отношусь к нему в "ego cogito".
Но в противовес этому у нас есть широкое поле переживания, или, как можно также сказать, поле сознания, которое не вступило в такое отношение с "эго" (или с которым "эго" не вступило в такое отношение): оно может стучаться в дверь "эго", но не «затрагивает» его, "эго" глухо к нему, так сказать.
Таким образом, бодрствующее "эго" со своими переживаниями в специфическом смысле бодрствования – переживаниями "ego cogito" – имеет постоянный, широкий горизонт фоновых переживаний, к которым "эго" не присутствует и «в» которых не пребывает.
Это могут быть ощущения, например звуковые, но "эго" не бодрствует к ним; физические объекты или телесные существа могут появляться в окружающем пространстве как в движении, так и в покое, но "эго" не осуществляет по отношению к ним «я воспринимаю» или «я замечаю»; аффекты могут переплетаться с этими фоновыми переживаниями или их объектами, переливаясь в общую атмосферу благополучия или недовольства; даже тенденции, переживания влечения, могут быть укоренены в них – например, тенденции, уклоняющиеся от недовольства, – но "эго" там не присутствует.
Сюда же относятся вспышки озарения, возникающие фантазии, воспоминания, теоретические инсайты или даже пробуждения воли, решения, которые, однако, не подхватываются "эго".
Только когда "эго" осуществляет их, они обретают форму "ego cogito" – «я занят в фантазии тем, что фантазируется», «я продумываю теоретический инсайт», «я осуществляю пробуждение воли» и т. д.
Таким образом, бодрствующая "эго"-жизнь отличается от не-бодрствующей "эго"-жизни, от "эго", «находящегося в оцепенении» в самом широком смысле, и они различаются тем, что в последнем случае вообще нет переживания в специфическом смысле бодрствования и нет актуального "эго" как его субъекта, тогда как в другом случае именно такое бодрствующее "эго" присутствует как субъект специфических актов.
6. Фоновые и актуальные переживания.Каждый акт в узком смысле обладает фундаментальной характеристикой быть сознанием чего-то, «интенциональным переживанием». Перцептивное переживание само по себе есть восприятие чего-то, например, дома; когнитивное переживание – это переживание чего-то познанного, как когда дом узнаётся как жилище; в каждом суждении есть нечто – суждённое положение дел; в каждом желании – нечто желаемое, в каждом волевом акте – нечто волеизъявляемое. Это широкое понятие интенционального переживания. Даже фоновые переживания интенциональны. Универсальная жизнь, которая целиком является жизнью сознания, охватывает как специфические акты (те, что относятся к собственно эго-сознанию), так и фоновое сознание.
Так, например, в состоянии бодрствования у нас постоянно есть визуальное пространство, наполненное и присутствующее в сознании. Если мы обращаем внимание на отдельное дерево в открывающемся перед нами ландшафте, то этот ландшафт как пространственное поле с множеством объектов дан сознанию и существует для нас. Иными словами, в целом и во всех отдельных чертах фоновые объекты являются для нас объектами благодаря тому, что они являются, благодаря тому, что в соответствующих переживаниях они обладают характером интенциональных переживаний. Каждое явление есть явление того, что в нём является: переживание явления дома в ландшафте – это именно явление этого дома, независимо от того, обращаем мы на него особое внимание или нет.
Таким образом, эгоический акт в узком смысле – это особая форма осуществления интенциональных переживаний. Отмечу, что изначально я ввёл термин «акт» в «Логических исследованиях» именно для этого самого широкого понятия интенционального переживания; в таком значении он теперь обычно употребляется в литературе. Поэтому теперь я подчёркиваю: «эгоический акт» или «акт в ограничительном смысле», когда речь идёт об актах, обладающих особой формой осуществления.
В жизни сознания происходит постоянное преобразование модусов осуществления: актуальные переживания, эгоические акты, теряют эту форму осуществления и принимают изменённую форму, и наоборот. Это справедливо для всех типов переживаний сознания. Познавательные акты, акты удовольствия, волевые акты не просто исчезают, когда мы перестаём осуществлять их с позиции эго – они становятся фоновыми переживаниями.
Здесь очевидно, что фоновые переживания, в отличие от соответствующих им актов, претерпевают сквозную модификацию, хотя и сохраняют нечто существенно общее, так что мы вынуждены продолжать говорить о тех же суждениях, желаниях и т. д. Конечно, они не тождественны. Это не как если бы вещи в комнате просто переместили от окна в тёмный угол, где они остались бы неизменными. В момент, когда фоновое переживание становится актуальным, то есть когда эго начинает осуществлять через него акты, оно как переживание претерпевает полную и сущностную трансформацию. И наоборот. И всё же даже суждение, отодвинутое на задний план, остаётся суждением об этом и том; фоновое восприятие – восприятием того же самого.
Сущностной чертой переживания является то, что оно остаётся сознанием того же самого при переходе от одного модуса осуществления к другому. Чисто через свою собственную сущность и при смене модусов они обосновывают сознание единства и тождества того, что дано в них сознанию; возникает своего рода совпадение – совпадение именно по их интенциональному содержанию как содержанию, данному в них. Эта ситуация делает понятным наш способ говорить об актах, которые становятся латенными, а затем вновь актуальными.
Контраргумент, возникающий в фоне сознания во время конфликта, изначально является латентным актом; его интенциональность (которая приводит к идее такого-то аргумента) – это скрытая интенциональность, пока мы, так сказать, не «вмешиваемся» и не актуализируем её, то есть не осуществляем явную аргументацию, аргументацию соответствующего содержания, исходящую из центра эго.
7. Взаимосвязь выражения и означивания как единство эгоического акта.Нашей темой было прояснение мышления, мышления вместе с речью, мышления, осуществляющего смыслополагающую функцию в речи. Всякий раз, когда мы действительно говорим или участвуем в дискурсе, слушая и понимая его, эта актуальность заключается в осуществлении эгоических актов в определённом нами смысле. Прежде всего это касается мышления, придающего словам смысл. Говорящий нечто подразумевает в произносимых словах, и этот акт подразумевания, это «мышление», принадлежащее речи, есть акт (или единая связь актов), осуществляемый эго. То, на что эго интенционально направлено в этих актах, есть то, что эго подразумевает в произнесении этих слов, то, что слова как дискурс «выражают».
Далее отметим, что даже те переживания, в которых слова сами производятся для нас как говорящих, переживания, в которых слова даны сознанию и существуют для нас, обладают характером эгоических актов, и [отметим], что наш анализ соответственно также научил нас чему-то относительно специфического модуса языкового сознания. Слова как реально произносимые слова не возникают в фоне, удалённом от эго; как говорящие, мы порождаем их, и через это порождение направлены на них в актах, а не в латентной интенциональности.
Более того, если говорят, что мы подразумеваем или выражаем то или иное словами, то даже это синтетическое единство акта подразумевания со словами принадлежит кругу специфического участия эго. В вербальном сознании слова обладают характером знаков; в них присущ характер указания; от них исходят индикативные тенденции, направленные на подразумеваемое и завершающиеся в содержании значений. Это переплетение принадлежит интенциональному составу единства вербального и языкового сознания, и эта особенность очевидно производит следующее: выражение и выражаемое, вербальное и смысловое сознание не просто juxtaposed, разъединены, но составляют единство сознания, в котором конституируется удвоенное единство слова и смысла.
В тот момент, когда мы концептуально устраняем эти индикативные тенденции и освобождаемся от них, у нас больше нет слов вообще – у нас есть бессмысленные звуки, как у попугая в его так называемой «речи»; у нас есть знаки, которые ничего не значат, и тогда они вообще перестают быть знаками, не говоря уже о выражениях.
Даже эта интенциональность, объединяющая сами слова и смысл, переживание слова и мышления, обладает характером актуальной интенциональности; чистое эго присутствует здесь. Эго схватывает слово в его рассмотрении; оно улавливает его индикативную тенденцию; оно добровольно позволяет ей направлять себя, инициируя осуществление мышления; оно позволяет ориентироваться на мыслимое как на подразумеваемое словами.

