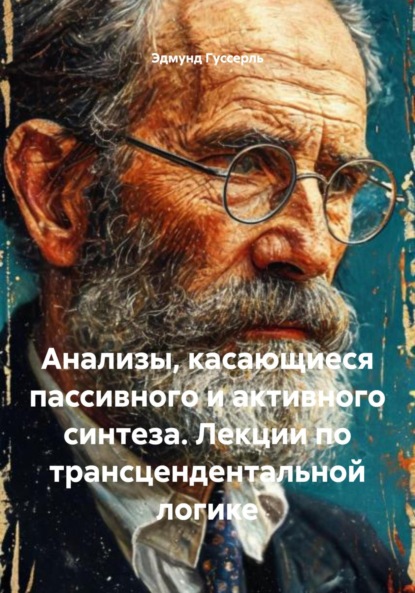
Полная версия:
Анализы, касающиеся пассивного и активного синтеза. Лекции по трансцендентальной логике

Эдмунд Гуссерль
Анализы, касающиеся пассивного и активного синтеза. Лекции по трансцендентальной логике
Часть 1: Предварительные рассуждения к лекциям по трансцендентальной логике.
Аналитический обзор гуссерлевских анализов пассивного и активного синтеза в «Лекциях по трансцендентальной логике». (В. Антонов)
Введение: логика как универсальная теория науки.
Гуссерль начинает с радикального переосмысления логики, отказываясь от её узкого понимания как формальной дисциплины и возвращаясь к её изначальной платоновской задаче – быть универсальной теорией науки и принципиальным основанием научного познания. Логика здесь – не просто набор правил мышления, но наука о сущностных условиях возможности подлинного знания. Она должна раскрыть априорные структуры, нормы и методы, которые делают науку наукой, а не эмпирически сложившейся культурной практикой.
Кризис современной науки, по Гуссерлю, заключается в её наивной автономии: науки утратили связь с философской рефлексией о своих основаниях, превратившись в технически эффективные, но слепые к своим собственным предпосылкам системы. Логика же, вместо того чтобы копировать методы естествознания, должна вернуться к трансцендентальной субъективности – к исследованию того, как сознание конституирует смысл и объективность.
Мышление как тема логики: язык, сознание, интенциональность.
Гуссерль анализирует логос в его многозначности: как речь, мышление и мыслимое. Ключевым является различение:
1. Язык как идеальное образование – слова, предложения, тексты существуют не как физические звуки или знаки, а как тождественные смысловые единства, сохраняющиеся в множестве воспроизведений (аналогично музыкальному произведению).
2. Мышление как смыслополагающий акт – это не абстрактный процесс, а интенциональное переживание, в котором сознание направлено на объект и конституирует его смысл. Например, в суждении «Германия восстанет» смысл («означенное») – не просто слова, а то, что "имеется в виду" в акте суждения.
3. Мыслимое (смысл) – инвариантное содержание, сохраняющееся в различных актах мышления (например, одно и то же суждение может быть выражено на разных языках).
Здесь Гуссерль вводит феноменологическое понятие смысла: смысл – это не психологическое содержание, но имманентный объект сознания, то, что «дано» в акте интендирования. Например, в восприятии дерева смысл – это «дерево как таковое», независимо от того, реально ли оно существует.
Эгологическая структура сознания: акты и фон.
Сознание, по Гуссерлю, структурировано вокруг чистого Я как центра интенциональных актов. В отличие от фоновых переживаний (например, неосознаваемых ощущений), эгологические акты – это те, в которых Я активно направлено на объект:
– Тематические акты – например, суждение или восприятие, где объект является "темой" сознания.
– Фоновые переживания – например, периферийное восприятие пространства, не схваченное тематически.
Эта дихотомия критична для понимания пассивного и активного синтеза:
– Пассивный синтез – это дорефлексивное, «фоновое» конституирование единства опыта (например, синтез временного потока или ассоциативные связи).
– Активный синтез – целенаправленные акты Я, такие как суждение или категориальное восприятие.
Смыслообразование и интенциональность.
Гуссерль подчёркивает, что смысл конституируется в интенциональных актах, а не «прикрепляется» к знакам извне. Например, в восприятии дерева:
1. Перцептивный смысл – «дерево» как интенциональный объект, данный через меняющиеся аспекты (вид спереди, сбоку и т.д.).
2. Объективный смысл – тождественное единство, схватываемое сознанием («дерево как таковое»).
Этот анализ распространяется на все типы сознания: даже в сомнении или желании есть интенциональный смысл (например, «сомневаюсь, что P» или «желаю, чтобы Q»).
Регресс к дотеоретическому сознанию.
Гуссерль настаивает на необходимости регресса от готовых теорий к их истокам в сознании. Наука, даже математика, опирается на донаучные смыслообразующие акты:
– Опыт (например, восприятие пространства) предшествует геометрии.
– Логические законы коренятся в трансцендентальной субъективности, а не в «чистых формах».
Таким образом, задача феноменологии – раскрыть, как пассивные синтезы (например, временнóе единство восприятия) и активные синтезы (например, категориальное мышление) совместно конституируют объективность.
Заключение: трансцендентальная логика как фундаментальная наука.
Гуссерль приходит к выводу, что подлинная логика должна быть трансцендентальной феноменологией, исследующей:
1. Смыслообразование – как сознание придаёт смысл миру.
2. Рациональность – как нормы истины возникают из интенциональных структур.
Только так можно преодолеть кризис наук, вернув им философскую осмысленность.
Примеры и связи:
– Сравнение с Кантом: у Гуссерля «трансцендентальное» – не априорные формы рассудка, но структуры сознания, раскрываемые рефлексивно.
– Влияние на Хайдеггера: анализ дотеоретического опыта предвосхищает «бытие-в-мире».
– Связь с когнитивной наукой: пассивный синтез аналогичен «автоматическим» процессам восприятия.
Ключевые термины: ноэзис/ноэма, эпохé, интенциональность, конституирование, жизненный мир.
Этот обзор показывает, как Гуссерль закладывает основы для феноменологической теории познания, где логика становится наукой о "конституировании смысла" в сознании.
1. Введение.В этих лекциях я намерен изложить некоторые фундаментальные соображения, касающиеся феноменологической логики. Под словом «логика» я понимаю не подчиненную, теоретическую и нормативную специальную науку в том смысле, в каком её обычно принимают сегодня, даже, скажем, в том смысле, в каком современный математик сформировал логику как особую математическую дисциплину. Логика в полном и универсальном смысле, в том смысле, который мы будем иметь в виду, – это наука, которая сознательно возвращает себе задачу, возложенную на логику вообще с её исторического возникновения в платоновской диалектике: а именно, задачу быть универсальной теорией науки и одновременно принципиальной теорией науки. Принципиальная теория науки означает науку, которая в принципе является наукой о всех науках как таковых.
Логика как теория науки – это, следовательно, наука об априори всех наук как таковых, теория того, что придает им смысл как образованиям практического разума, что они необходимо должны выполнять, если действительно хотят быть тем, чем стремятся быть, – образованиями практического разума. Как чистая, априорная теория науки, логика стремится выявить «чистые» всеобщности согласно сократико-платоновскому методу. Таким образом, она не желает эмпирически следовать по пути так называемых «наук» – культурных форм, возникших фактически и носящих имя «наука», чтобы затем абстрагировать от них эмпирические типы. Напротив, свободная от всех связей с фактичностью, она хочет довести до полной ясности телеологическую идею, которую всегда смутно имеют в виду, действуя из чисто теоретического интереса. Последовательно исследуя чистые возможности познающей жизни вообще, она стремится вывести на свет сущностные формы подлинного знания и науки во всех их основных формах, а также сущностные предпосылки, с которыми они связаны, необходимые методы, ведущие к ним. Во всём этом, таким образом, заключены необходимые нормы, по которым можно измерить, насколько фактическая наука (изначально лишь претендующая на звание науки) соответствует идее науки, в какой степени её особые способы познания являются подлинными способами познания, её методы – подлинными методами, то есть методами, которые по своему принципиальному строю соответствуют чистой и формально всеобщей норме. Смысл «формального» здесь состоит именно в том, что направляющий вопрос касается не отдельной науки с её особыми областями, а цели, смысла и возможности подлинной науки как таковой.
Исторически то, что мы сегодня называем наукой в узком смысле, развилось из логики, а именно – сначала из нормативных ориентиров, разработанных в платоновской диалектике. Классическое выражение, гласящее, что все науки возникли из материнского лона философии, особенно хорошо подходит для логики и, с другой стороны, для наук в том особом смысле, который мы все сегодня имеем в виду.
В более широком смысле мы также называем «наукой» космологические теории доплатоновской эпохи, подобные культурные образования других народов и времён, даже астрологии и алхимии и тому подобное. Но в лучшем случае это зачаточные формы, предварительные ступени науки – и это справедливо в равной мере как для доплатоновской философии или науки греков, так и для древнеегипетской математики, для древневавилонской астрономии.
Наука в новом смысле впервые возникает благодаря платоновскому основанию логики, благодаря радикальному и критическому размышлению о сущности и эйдетических требованиях подлинного знания и подлинной науки, а также благодаря раскрытию норм, согласно которым возникает наука, отныне сознательно направленная на нормативное обоснование, наука, сознательно оправдывающая свой собственный метод. В соответствии со своим замыслом, это оправдание из чистых принципов, то есть логическое оправдание. Наука в новом смысле, таким образом, больше не хочет наивно действовать на основе чисто теоретического интереса. Она стремится обосновать из принципов каждый свой шаг в его подлинности, в его необходимой значимости. Соответственно, в этом случае исходный смысл таков, что логическое усмотрение, касающееся принципов, взятое из чистой идеи возможного знания и метода знания вообще, предшествует методу, предпринимаемому фактически, а также фактическому образованию науки, и направляет его априорным образом; но смысл не таков, что факт какого-либо произвольного метода и науки, возникающих наивно, и тип, считанный с этого факта, должны выступать в качестве нормы, чтобы служить образцом для научных достижений вообще.
Логика Платона возникла как реакция на всеобщее отрицание науки – отрицание, характерное для софистического скептицизма. Если скептицизм отрицал принципиальную возможность чего-то подобного науке вообще, то Платону пришлось рассмотреть именно принципиальную возможность науки и критически её обосновать. Если наука как таковая ставилась под вопрос, то, конечно, нельзя было предполагать факт науки. Таким образом, Платон был приведён на путь чистой идеи. Его чисто идеальная логика, или теория науки, формирующая чистые нормы (а не считанные с фактических наук), имела миссию не только «знать», но и делать возможной фактическую науку и практически направлять её. И именно выполняя это призвание, она действительно помогла создать науки в точном смысле: новую математику и естествознание и т. д., дальнейшее развитие которых на более высоких уровнях – это наши современные науки.
Однако в новое время исходное отношение между логикой и наукой любопытным образом обратилось. Науки стали автономными. Они культивировали высокодифференцированные методы в духе критического самообоснования, духе, который стал для них теперь второй натурой; плодотворность этих методов становилась очевидной и несомненной благодаря опыту или взаимному подтверждению согласием всех специалистов. Хотя они и не культивировали эти методы в наивности обыденного человека, они делали это в наивности более высокого уровня, в наивности, которая отказывалась от обоснования метода из чистых принципов, обращаясь к чистой идее в соответствии с предельными априорными возможностями и необходимостями. Другими словами, логика, которая изначально была носительницей метода и претендовала на роль чистого учения о принципах возможного знания и науки, утратила это историческое призвание и, понятно, сильно отстала в своём развитии. Даже великая реформа математики и естественных наук в XVII веке, осуществлённая такими фигурами, как Галилей, Декарт и Лейбниц, всё ещё определялась логическим размышлением о природе и требовании подлинного естественного знания, об их априорно необходимых целях и методах. Таким образом, если совершенствование логики в этих начинаниях ещё предшествует совершенствованию науки и они идут рука об руку, то это существенное отношение изменяется в следующую эпоху, в эпоху, когда науки, ставшие автономными, превращаются в специальные отрасли знания, которые больше не заботятся о логике и даже отбрасывают её с пренебрежением. Но и сама логика в новейшее время полностью отходит от своего собственного смысла и неотчуждаемой задачи. Вместо того чтобы исследовать чистые сущностные нормы науки во всех их сущностных образованиях, чтобы тем самым дать принципиальную ориентацию, она, напротив, довольствуется копированием норм и правил из фактических наук, особенно из высоко ценимых естественных наук.
Возможно, это указывает на более глубокую и значительную трагедию современной научной культуры, чем та, которую принято оплакивать в научных кругах. Говорят, что количество специальных отраслей науки так разрослось, и каждая из них стала настолько обширной в своей особой области знания и методов, что никто уже не в состоянии в полной мере воспользоваться всем этим богатством, наслаждаться владением всеми сокровищами познания.
Недостаток нашей научной ситуации представляется гораздо более существенным, более радикальным в буквальном смысле этого слова; он касается не коллективного объединения и присвоения, а укоренённости наук, которая есть укоренённость в принципе, и их объединения из этих корней. Это оставалось бы недостатком даже в том случае, если бы невероятная мнемоническая технология и направляемая ею педагогика сделали бы возможным для нас обладание энциклопедическим знанием теоретически и объективно установленных фактов в совокупности соответствующих наук.
Отсутствуют центральные идеи, которые легко осветили бы всё мышление в специальных отраслях науки и одухотворили бы все его частные результаты, относя их к вечным полюсам; отсутствует то, что снимает со всех специальных отраслей науки шоры, необходимые лишь для их особой работы; отсутствует способность интегрировать их в единую универсальную связь актуального и возможного знания и тем самым понять эту связь как связь, необходимую в принципе. Но недостаёт ещё многого другого, а именно – отсылки к феноменологическим первоисточникам всякого знания, глубочайшего обоснования всех объективных наук, исходящего из универсальности познающего сознания. Таким образом, отсутствует систематическая фундаментальная наука, которая давала бы предельное понимание всякой теории, исходя из первоначально смыслополагающих источников познающей субъективности.
Если высшая задача познания состоит не только в том, чтобы вычислять ход мира, но и понимать его – как охарактеризовал эту задачу Лотце в известном изречении – то мы должны принять это изречение в том смысле, что мы не удовлетворяемся ни тем способом, каким позитивные науки методологически формируют объективные теории, ни тем, каким теоретическая логика направляет формы возможной подлинной теории к принципам и нормам. Мы должны подняться выше самозабвения теоретика, который в своих теоретических свершениях отдаётся предметам, теориям и методам и ничего не знает о внутренней стороне своего свершения и о мотивациях, его обусловливающих, – который живёт в них, но не имеет тематического взгляда на эту свершающую жизнь саму по себе.
Мы поймём свершаемое как подлинную теорию и подлинную науку только через прояснение принципов, спускающееся в глубины внутренней стороны, свершающей знание и теорию, то есть в глубины трансцендентальной, феноменологической внутренности; это прояснение, исследующее теоретическое смыслополагание и свершение разума в его сущностной необходимости, смыслополагание и свершение, осуществляемые во взаимодействии трансцендентальных связей мотивации. Но только через такое прояснение мы поймём также истинный смысл того бытия, смысл, который наука хотела раскрыть в своих теориях как истинное бытие, как истинную природу, как истинный мир духа.
Таким образом, только трансцендентальная наука, то есть наука, направленная в сокрытые глубины свершающей познавательной жизни, и тем самым наука, прояснённая и обоснованная, – только эта наука может быть предельной наукой; только трансцендентально-феноменологически прояснённый мир может быть миром, в конечном счёте понятным, только трансцендентальная логика может быть предельной теорией науки, только она может быть предельной, глубочайшей и всеобщей «теорией принципов и норм всех наук» и одновременно превращать их в проясняющие и понятные науки. В то время как современные позитивные науки, даже точные науки, сначала наполняют новичка энтузиазмом и действительно духовно обогащают его, в конечном счёте они оставляют его глубоко неудовлетворённым; примечательно, что это так при условии, что он хочет быть больше, чем профессионалом и специалистом, что он хочет понимать себя как человека в полном и высшем смысле и хочет понимать мир, и хочет ставить перед собой и миром вопросы предельного знания и совести.
Мы чувствуем это, и в наше несчастное время мы особенно остро осознаём, что наукам недостаёт философского духа, духа предельной и принципиальной чистоты и ясности, и прежде всего духа той ясности, которую мы называем феноменологической, трансцендентальной ясностью. И именно это является причиной сетований на то, что мы не становимся через них мудрее и лучше, как того, несомненно, требует их притязание.
Но если мы вновь ухватимся за идею логики так широко и широкодушно, как она должна быть понята в соответствии с её первоначальным замыслом, и если мы оживим её трансцендентальным духом, пробуждённым в новое время, но не достигшим чистого самосознания, то мы должны будем сказать, что современным наукам недостаёт подлинной логики как матери их подлинного метода: логики, которая освещает им путь глубочайшим самопознанием познания и делает понятными все их действия.
Соответственно, эта логика не хочет быть просто техникой для неких крайне прагматических свершений духа, которые называют научными, техникой, которую в конечном счёте ориентируют эмпирически на практические результаты. Она хочет вновь предшествовать всем возможным наукам как оправдывающая система принципов всякого объективного оправдания, система принципов, которая понимает себя через абсолютный метод, а именно – для того, что должно считаться наукой и должно быть способно развиваться как подлинная наука.
Насколько науки нуждаются в такой логике, или, вернее, насколько мало они способны возникать как самодостаточные науки и сохраняться в такой самодостаточности, видно по конфликту относительно истинного смысла их оснований, конфликту, который разделяют все науки, как бы точны они ни были. И мы видим, что в истине они полностью находятся в темноте относительно собственного смысла. Конечно, только трансцендентальная логика позволяет полностью понять, что позитивные науки могут осуществить лишь относительную, одностороннюю рациональность, рациональность, которая оставляет после себя полную иррациональность как свой необходимый противовес. Но только всеобъемлющая рациональная наука есть наука в высшем смысле, какой изначально хотела быть древняя философия.
По крайней мере, я хотел бы дать вам взглянуть на некоторые из глубоких уровней этой универсальной логики; и если я не в состоянии сделать эту логику тематической во всей её универсальности, то не только из-за её величия и трудности (а также множества её подчинённых дисциплин), но прежде всего потому, что стало ясно: для того чтобы вывести на свет действительно понятную трансцендентальную логику, с самого начала должна быть проделана огромная трансцендентально-феноменологическая предварительная работа. Даже если, исторически и субъективно говоря, очертания позитивных наук и позитивной, или теоретической, логики были разработаны первыми, феноменологические исследования тем не менее образуют то, что первое в себе, – из чего все основные формы логических структур должны исходить всеобщим образом и согласно понятной мотивации. В этих лекциях мы будем заниматься исключительно такими трансцендентально-логическими основаниями.
2. «Мышление» как тема логики. Говорение, мышление, мыслимое.Термин «логос», от которого происходит название «логика», имеет множество значений, возникших в результате вполне понятных видоизменений более первоначальных значений греческого глагола λέγω – «собирать», «излагать», а затем «излагать словами», «выражать в речи». В развитом языке λόγος иногда означает само «слово» и «речь», иногда – то, о чем идет речь, предмет обсуждения. Но он также означает и мысль, облеченную в форму предложений, порождаемую говорящим субъектом для коммуникации или даже для самого себя – то, что можно назвать духовным смыслом языкового высказывания, или, иначе, «теоремой» (вне всякой связи с грамматикой), а именно то, что подразумевается под грамматическим выражением предложения, равно как и смысл имен. В частности, в случае универсальных слов λόγος означает универсальное понятие, принадлежащее им как их смысл.
Далее, во многих выражениях λόγος также относится к самому интеллектуальному акту, к деятельности высказывания, утверждения или к другим модусам мышления, в которых формируется смысловое содержание, относящееся к соответствующим объектам или положениям дел.
Однако все эти значения слова λόγος приобретают особый смысл – особенно там, где действуют научные интересы – благодаря идее нормы разума, входящей в это значение. Тогда λόγος означает сам разум как способность, но также и рациональное, то есть очевидное мышление или мысль, направленную на очевидную истину. Более конкретно, λόγος означает также способность формирования легитимных понятий, а это, в свою очередь, означает как рациональное образование понятий, так и само это легитимное понятие.
Наконец, мы упомянем еще более специфическое употребление этих значений, при котором на передний план выходит именно «научный» элемент его смысла: тогда мы имеем в виду научное понятие, научное образование понятий, научное мышление или соответствующую интеллектуальную способность.
Если мы теперь примем это очевидно согласованное многообразие значений слова λόγος в качестве ориентира для формирования первоначального представления о науке логоса, перед нами откроются богатые и тесно связанные темы для теоретического исследования и нормативного применения. Здесь легко наметить естественный ход исследования. Если мы сосредоточимся на второй и третьей группах значений, тема разума как способности правильного мышления, обоснованного очевидным образом как понятийной, научной способности, приведет нас от более общего вопроса о том, как временные акты Я обосновывают соответствующие устойчивые способности, непосредственно к вопросу о природе «рациональных» актов мысли, которые рассматриваются.
Но теперь, прежде чем можно будет рассмотреть специфическое качество этой рациональности, естественно, должно стать темой само специфическое качество мышления, предшествующее всем различиям рационального и иррационального.
Смысл нашего рассуждения о логосе ведет нас прежде всего к понятийному мышлению и понятийной мысли. Однако понятийное мышление в общем, до применения нормы, не охватывает все мышление в целом, по крайней мере, если понимать мышление в самом широком смысле слова. Поэтому вернемся к мышлению в самом широком смысле и рассмотрим его пока предварительно.
Поскольку человеческое мышление обычно осуществляется языковым образом, и все рациональные операции практически полностью связаны с речью, поскольку всякая критика, из которой, как считается, проистекает рациональная истина, использует язык как интерсубъективную критику и в результате всегда приводит к высказываниям, то изначально в поле внимания оказываются не только акты мышления и мысли, но и речь, высказывания, высказанные мысли. Таким образом, мы приходим к первой группе значений термина λόγος.
Первая группа значений «логического» может быть сведена к трем рубрикам: говорение, мышление, мыслимое. Естественно, мы можем также говорить и о соответствующих способностях: способности речи, которая мыслится только вместе с говорением, и посредством мышления, относящегося к мыслимому. Таким образом, мы рассматриваем высшие психические существа, людей, и не имеем в виду животных. Только человек обладает языком и разумом, только человек может осуществлять психические акты, подчиненные нормативному регулированию разума – по крайней мере, таково общее убеждение.
Только человек порождает познавательные образования в форме мышления, подобные тем, что существуют в научной культуре, и способен выражать их языком, документируя; только человек имеет нечто подобное литературе.
3. Идеальность языковых явлений.Однако три указанные выше рубрики остаются весьма неоднозначными; из-за значительной неясности используемых терминов они требуют дальнейшего различения и уточнения. Прежде всего, мы осознаем, что не должны упускать из виду определенное различие, когда речь идет о термине «речь» или «язык». Мы отличаем артикулированное слово, речь, произносимую в настоящий момент как чувственный феномен, особенно как акустический феномен, от самого слова и предложения или от цепочки предложений, составляющих более обширный дискурс. Неслучайно мы говорим именно о повторении одних и тех же слов и предложений, если нас не понимают, повторяя сказанное. В трактате, в романе каждое слово, каждое предложение уникально, и оно не может быть воспроизведено путем повторного чтения, будь то вслух или про себя. Действительно, в этом случае неважно, кто его читает: у каждого свой голос, интонация и т. д. Мы отличаем не только сам трактат (понимаемый здесь в чисто грамматическом смысле как композиция слов и языка) от множества произнесенных воспроизведений, но также и от множества документальных фиксаций, сохраняющихся на бумаге и в печати, на пергаменте и в чернилах, на глиняных табличках клинописью и т. д. Одно и то же языковое произведение воспроизводится тысячекратно, например, в виде книги, и мы без колебаний говорим: «та же самая книга», «то же самое название», «тот же самый трактат»; и, конечно, эта тождественность сохраняется уже в чисто языковом отношении, в то время как она сохраняется и иным образом, если полностью отвлечься от содержания значения, о котором мы скоро поговорим.



