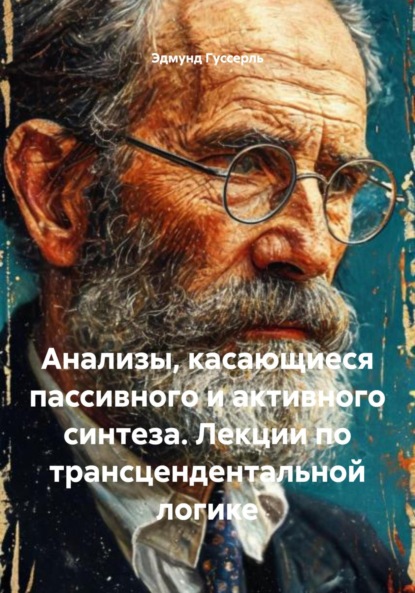
Полная версия:
Анализы, касающиеся пассивного и активного синтеза. Лекции по трансцендентальной логике
Но здесь мы не намерены сами слова! Мы можем также намеревать слова в других актах; мы можем заинтересоваться ими, как мы привыкли говорить, делая их нашей «темой» в этом интересе, возможно, делая их нашей теоретической темой, как это бывает у грамматистов. В этом случае мы осуществляем теоретические суждения и соответствующие им теоретические дискурсы, дискурсы, которые оперируют новыми словами; очевидно, тогда проявляется различие между словами, которые являются нашей грамматической темой, и словами, которые мы используем для выражения себя на эту тему, для выражения наших мыслей относительно них.
Оба типа слов даны сознанию принципиально по-разному: в одном случае акты, направленные на них, суть акты интереса, в другом – нет. В самом широком смысле, но не в буквальном, обычном смысле, мы могли бы говорить об интересе именно для того, чтобы сказать, что акт вообще осуществляется, то есть что в нём эго присутствует для соответствующего интенционального объекта, что эго направлено на что-то в акте. Но нормальное понятие интереса означает больше – оно означает тот своеобразный модус осуществления актов, при котором данное в них сознанию является темой для эго.
Если сами слова не даны сознанию тематически в каждом текущем дискурсе, у них всё равно обязательно есть тема, а именно та, что заключена в подразумеваемом с помощью слов. Таким образом, смыслополагающий акт есть интендирующий акт в специфическом смысле тематического акта, который в модусе интереса направлен на тему, заключённую в содержании акта.
Актуальность указания, присущая слову в сознании реального дискурса, получает уточняющее определение через наше прояснение черты тематических актов. Слово как бы указывает away от себя на выражаемое как тематический смысл. Этот анализ, очевидно, касается любого типа знака или, точнее, актуального означивания, будь оно языковым или неязыковым. Определённый императив, твёрдое указание на его тематическое интендирование, твёрдо присущ каждому знаку согласно его сущности как знака.
Если же наш интерес всё же обращён к самому знаку, то тематическое предпочтение знака противоречит его функции; оно происходит в нём вопреки ей; и чувствуется, что это «вопреки» имеет феноменологический характер.
Мы пришли к пониманию, что ни в каком интенциональном переживании, ни даже в каком-либо акте нельзя обнаружить смыслоконституирующую функцию – ни относительно знаков вообще, ни, соответственно, относительно речи. Только акты в модусе тематических актов, акты интереса в специфическом смысле, могут функционировать таким образом; только акты, через которые данное в них сознанию обладает для эго преимущественным характером тематического интендирования.
Естественно, этот характер тоже подвергается фоновым модификациям, как и всё, что мы демонстрируем в реальном дискурсе относительно структур, но именно как модифицированный; модификации могут быть дарованы всем актам, а значит, и актам дискурса. В этом отношении не требуется никакого дальнейшего специального разъяснения. Останемся в сфере бодрствующей активности, которая единственно плодотворна для нас. То, что я утверждаю, что я выражаю в речи, есть моя тема, моё «что я интендирую» в момент текущего говорения.
Если я что-то утверждаю, то мой тематический акт есть суждение, и у меня есть моя индикативная тема, индикативное интендирование. Точно так же, если я выражаю желание, то моё желание есть тематический акт, желание осуществляется как моё optative-интендирование; в вопросительном дискурсе вопросительный акт имеет тематическую форму и т. д.
В целом, соответственно, существует множественность актов, осуществляемых говорящим в данный момент, актов, синтетически связанных друг с другом, образующих единство одного акта. У нас есть не только непрерывная последовательность актов при продвижении вдоль дискурса в его отдельных словах и предложениях – непрерывная последовательность актов, связанных друг с другом и тем самым конституирующих для говорящего единство дискурса, построенного из смыслонаполненных слов и предложений, и который теперь является единым осмысленным дискурсом.
Не только, говорю я, у нас есть эта множественность, продвигающаяся вдоль дискурса, но она также принадлежит каждому поперечному сечению, так сказать, к разнообразию; то есть она принадлежит каждой части дискурса и, возможно, каждой части слова, поскольку оно всё ещё есть дискурс, всё ещё наделено смыслом. В каждом месте у нас есть организация акта согласно слову и смыслу, таким образом, сама синтеза, проистекающая из всеобъемлющего акта, а именно из индикативного акта, который приписывает связанным актам одновременно разное место и функцию.
8. Тема, интерес, указание.В конце нашей последней лекции мы охарактеризовали весь комплекс выражения и означивания как единство эгологического акта. Теперь мы можем сразу же продолжить эту линию рассуждений, чтобы придать мышлению необходимую глубину – ту глубину, в которой проявится новый и в то же время особо отличительный способ осуществления эгологических актов в целом. Если мы сравним способ осуществления, в котором центральное говорящее «Я» выполняет слово-конституирующий акт, с одной стороны, и смысло-конституирующий акт – с другой, то столкнёмся с резким контрастом. Последний мы также назвали актом значения или интенции. Например, то, что выражается в пропозициональной речи, вроде «геометрия есть наука о пространстве», есть то, что говорящий «имеет в виду» в суждении. Но в то время как он «имеет в виду» суждение «посредством» слов, сами слова в данном случае он не имеет в виду. Они даны «Я» совершенно иначе, нежели то, что высказано в суждении. В последнем, так сказать, пребывает "terminus ad quem", и благодаря этому оно обладает особой приоритетностью по отношению к слову, хотя взор «Я» был направлен и на слово.
Тот факт, что вы удерживаете в уме слова (как и объекты вообще) в специфических актах, ещё не означает, что акты направлены на слова через их интенциональное полагание. Конечно, мы можем приписать им и различение как интенцию, но тогда [это произойдёт] лишь в соответствующим образом изменённых актах. Мы можем проявить особый интерес к словам, как иногда говорят, можем сделать их своей «темой» через этот интерес, как, например, поступаем мы, грамматики. Тогда они становятся нашими теоретическими темами; по отношению к ним мы осуществляем теоретические суждения и соответствующие им теоретические дискурсы, развёртываемые в новых словах. Здесь особенно ясна разница между словами, которые являются нашими грамматическими темами, и словами, которые мы используем, чтобы высказать наши теоретические мысли об этих темах. Оба даны сознанию принципиально различным образом: в одном случае акты, направленные на них, суть акты интереса в узком смысле этого термина, в другом – нет.
Можно, конечно, говорить в самом широком, хотя и не общепринятом смысле об интересе «Я» по отношению к каждому акту. Ведь «Я» как чистое «Я» поглощено каждым актом и интересом; оно направлено на что-то и поглощено этим. Но нормальное понятие интереса означает больше; оно означает особый способ осуществления акта, благодаря которому в этом понятии интереса нечто даётся сознанию – даётся в особом модусе темы, темы, на которую направлен взор.
Выражения «интенция» или «значение» время от времени используются в общем смысле для всех актов, чтобы изобразить направленность «Я» на интенциональное содержание, и по этой причине необходимо отличать тематическую интенцию, или тематический акт, от интенции или акта вообще. Таким образом, в каждом дискурсе присутствует тема с потенциально множеством особых тем, только вот сами слова дискурса как раз не являются темами. Тема пребывает в том, что имеется в виду в словах. Смыслополагающий акт – не просто второй переплетённый акт, но переплетённый как тематический акт, акт интереса. Различные способы его осуществления, на которые указывают слова «интерес» и «тема» – где первое отсылает к «Я» и его действию, а второе нет – очевидно принадлежат переживаемым актам даже вне ассерторического дискурса. Здесь также становится ясно, что существуют разные степени интереса и, с другой стороны, модусы интереса, которые не сводятся лишь к различиям в степени. Так, интуитивное восприятие объектов и событий окружающего мира может быть более или менее интересным;
«Я» имеет в них свою тему, но поглощено ими с большей или меньшей интенсивностью. С другой стороны, хотя «Я» имеет свою первичную тему в этих предметах, на которые оно направлено, оно может не только замечать дополнительные события, но и проявлять к ним интерес. Однако тогда они становятся вторичными темами, интересами второго порядка.
Если мы теперь на мгновение вернёмся к особой сфере выражения, нас поразит любопытная взаимосвязь между функцией смысла как тематической и функцией указания – взаимосвязь, фундаментальный характер которой становится понятным только теперь. Выраженное более полно, слово в нормальном дискурсе указывает away от себя и на смысл, то есть слово направляет интерес. Слово-знак, само по себе не являющееся предметом интереса, служит для привлечения внимания к смыслу как к тому, что имеет значение для «Я».
Этот анализ, очевидно, подходит для любого рода знаков или для актов, в которых они осуществляют свою означивающую функцию – будь то лингвистические знаки или другие типы знаков, например сигналы лодочника. Момент, когда наш интерес направлен на сами знаки и задерживается там (нарушая эту нормальную функцию), как, например, когда он направлен на письменные знаки или на флаг, служащий сигналом, аномально проявляется в самом переживании. Чувствуется, что это, так сказать, идёт против естественного хода вещей и что нарушается не просто привычка, но привычная определяющая цель, практический императив.
Таким образом, мы также получили более глубокое понимание essentialной структуры живой речи, прежде всего знание о том, что смыслополагающее мышление не может быть любым актом, но лишь таким, который обладает общим характером тематически интендирующего акта – будь то в других отношениях сужденческая интенция, презумптивная интенция, интенция сомнения, интенция желания или волевая интенция.
9. Регресс от теоретического логоса к дотеоретической смыслообразующей жизни сознания.Теперь мы хотим выйти за узкие рамки, в которых до сих пор ограничивалось наше исследование, а именно – за рамки мышления как смыслообразующей функции, присущей высказываниям. На самом деле, каждый шаг наших предыдущих анализов внутренней работы, совершающейся в языковом мышлении, уже указывал на общий характер сознания, выходящий за эти узкие границы. Теперь же мы хотим войти в область наибольшей общности, где речь уже идет не о словах и высказываниях, но – в расширенном смысле – о смысловой данности, а также о различиях между рациональным и иррациональным, которые относятся к особой теме всякой логики.
Как мы уже говорили в самом начале, подлинная тема логики отсылает к наиболее содержательной и, так сказать, возвышенной группе значений – к группе значений слова «логос», связанных с разумом, особенно с научным разумом, и с достижениями, которые в нем осуществляются. Соответственно, она относится ко всей языково оформленной структуре, которую выражают рубрики «научная теория», «научная система». Таким образом, логика должна охватывать принципы и теоремы, дедукции и доказательства во всей их систематической взаимосвязи, точно так же, как они были бы объективно представлены в идеальном учебнике – как духовное достояние человечества. Как я уже отмечал ранее, термин «рациональное» является нормативным термином. Рациональное – это истинное, подлинное; это то, к чему стремится даже иррациональное, человек, поскольку он мыслит иррационально, но чего он лишен в своей неясности и путанице из-за неподлинного, иррационального метода. Соответственно, мы можем сказать, что логика относится к науке в подлинном смысле или, иначе выражаясь, она с самого начала хотела и хочет быть универсальной теорией науки, наукой о сущности подлинной науки вообще. Под рубрикой науки человечество стремилось систематически познавать мир или, в специализации исследовательских интересов, познавать какой-то особый тип бесконечно открытой области мира. Эта изначально неясная руководящая идея науки должна была быть прояснена и заострена. Существенные черты подлинной науки, те, с которыми истинность ее методов и теорий связана регулятивной необходимостью, должны были быть выявлены и, благодаря своей ясности, признаны в этой настоятельной необходимости. Таким образом, целью было одновременно получить очевидную норму для всех процедур практического разума в основании подлинной науки и, опираясь на это, подняться к еще более высоким достижениям истины.
Поскольку здесь постоянно речь идет о модусах осуществления и результатах этого осуществления – о субъективной деятельности ученых и об объективной структуре духовных образований, следующих из нее (а именно, теорий), – усилия по прояснению и научному познанию, относящиеся к теории науки или логике, должны быть двоякими: направленными, с одной стороны, субъективно – на познающую деятельность, а с другой – объективно – на теорию.
Однако только в Новое время стало видно (или, вернее, сначала лишь смутно ощущаться, а затем и очевидно осознаваться), насколько эта двойственная структура требует глубоких и всеобъемлющих исследований, если мы действительно хотим понять сущность научного достижения как сущность достижения разума. Как только систематические части наук были получены в определенной наивной очевидности (как уже в античности – евклидова геометрия, начала астрономии и механики, а оттуда – определенные твердые и точно сформированные теории, чья познавательная ценность казалась неоспоримой благодаря этой наивной очевидности), понятно, что эти модели были концептуально закреплены, и внимание преимущественно фиксировалось на том, что было объективно доступно – на многообразных формациях теории. Сначала считалось, что теории состоят из предложений, они продвигаются от истинных предложений к истинным предложениям; инсайт схватывает истину и тем самым оправдывает притязание на истинность.
Предложения, чья истинность непосредственно очевидна, через дедукции приводят к выводам, которые становятся очевидными в своей зависимой истинности. Весь связующий комплекс, составленный из элементарных дедукций и произведенный в своем единстве, сам является единством истины как теории. Эти целостные образования, построенные из отдельных предложений, действительно являются языково-выразительными формациями, но языковой элемент в них (например, варьирующийся в зависимости от национального языка) здесь несущественен. В этом варьировании чисто языкового элемента выделяется чистая мысль, чистая значимость, тождественное предложение или, как еще говорят, суждение. Только к последнему привязана очевидность и предикация истинности или, возможно, ложности. В этом смысле не только отдельное предложение, но и целостное единство теории является сложным суждением.
Таким образом, логика была направлена на теорию теории; она рассматривала эти чистые единства значимости и исследовала их в своего рода описательно-классификационной манере. Систематически различались общие формы этих значимостей – формы суждений и их элементов, а также формы связей, через которые возникают сложные суждения: элементарные формы суждений, такие как «S есть P», «все S есть P», «некоторые S есть P», «если S есть P, то Q есть R» и т. д. Сюда же относилось систематическое построение тех форм комплексов суждений, которые называются дедукциями. Затем можно было исследовать эти формы, чтобы увидеть, в какой мере они дают общие условия возможной истинности или ложности суждений, сформированных таким образом. Если исследовать формы дедукции подобным образом, становится очевидным, что нельзя произвольно связывать предложения с дедукциями или формы предложений с формами дедукций, а именно, поскольку очевидно, что дедукции определенных форм в принципе ложны и что с точки зрения истинности допустимы лишь определенные формы дедукций. Всякая дедукция с формой «если все A есть B и все B есть C, то все A есть C» корректна относительно следствия, но если бы она гласила «не все A есть C», дедукция была бы ложной. Отсюда можно было увидеть, что формам суждений, как и формам чистых пропозициональных мыслей, принадлежат законы формы, которые, в зависимости от обстоятельств, говорят, что суждения и образования суждений таких-то чистых форм противоречивы раз и навсегда, они в принципе ложны; другие же не противоречивы и по своей форме могут быть истинными.
Так возникла аристотелевская силлогистика, а затем и более поздняя, более или менее чисто сформированная формальная логика. По своему ядру, которое одно только и полезно, она фактически предлагает начала учения о формах и учения об обоснованности суждений, относящихся к чистой форме, а значит, и начала теории возможных форм теорий. Традиционная логика не достигла ничего большего в отношении теории теории; с другой стороны, в отношении исследований, субъективно направленных на сущность научного мышления, было сделано очень мало, то есть в связи с критикой познания. Со времен Локка тщетно пытались продвинуться вперед с помощью психологии познания и теории обоснованного рационального познания, построенной на ней. Но натурализм этой психологии не смог постичь сознание и достижение сознания изнутри, и, хотя он претендовал на обоснованность во внутреннем опыте, он даже не смог разглядеть эту особенность сознания; натурализм этой психологии получил воздаяние в своих абсурдных теориях познания, возникших здесь – абсурдных в самом строгом смысле; абсурдность этих теорий действительно ощущалась, но тщетно пытались ее прояснить. Совершенно непонятным в Новое время был этот союз между чистыми идеальными теориями формальной логики значимостей, с одной стороны, и теориями гносеологических исследований – с другой.
Предложения, теории каким-то образом возникают из внутренней стороны осуществляющего мышления; но как именно выглядит это внутреннее мышление, что оно собой представляет и что оно осуществляет как так называемая «очевидность» – это остается неясным.
Только с феноменологией у нас впервые появились пути доступа, методы и инсайты, которые делают возможной подлинную теорию науки – благодаря ее радикальному возврату к смыслообразующему сознанию и всей сознательной жизни. Именно феноменология серьезно вопрошает назад от готовых предложений – к мыслящему сознанию и к более широкой связи жизни сознания, в которой эти образования конституируются; и она вопрошает еще глубже – от всех типов объектов как субстратов возможных теорий – к переживающему сознанию и его существенным характеристикам, которые делают переживающее достижение понятным. Она позволила нам беспредпосылочно увидеть интенциональность как ту самую черту, которая составляет фундаментальную сущность сознания. Она разработала методы раскрытия скрытой импликации одного сознания в другом – импликации, которая повсюду дана с этой чертой, – и тем самым сделала понятным, как объективность как истинное бытие всякого рода формируется в субъективности жизни сознания как достижение, а затем формируется как более высокий уровень достижения, который присутствует как теория.
Если вернуться от мертвой, так сказать, и объективированной теории к живой, текучей жизни, в которой она возникает очевидным образом, и если рефлексивно исследовать интенциональность этого очевидного суждения, дедуцирования и т. д., то сразу же станет ясно, что то, что предстает перед нами как достижение мысли и могло проявиться языково, опирается на более глубокие достижения сознания. Так, например, чтобы исходить из актуальной очевидности, всякая теория, относящаяся к природе, предполагает природный опыт – то, что мы называем внешним опытом. Таким образом, все теоретическое знание в конечном счете отсылает назад к опыту.
При ближайшем рассмотрении мы видим, что уже под рубрикой «опыт» осуществляется смыслообразующее достижение – причем высоко разветвленное, сложное и даже покрытое широко понимаемой рубрикой разумного и неразумного, причем только рациональная операция, сформировавшаяся в определенной свободной спонтанности, может функционировать как верифицирующее основание подлинной теории.
Невозможно понять, что такое мышление (которое является высокоорганизованным достижением) в специфическом смысле – чтобы оно могло быть выражено языком и универсальными словами и чтобы оно могло дать науку, теорию, – если мы не вернемся назад, за пределы этого мышления, к тем актам и достижениям, которые составляют самую обширную часть нашей жизни. Ибо в этой обширности находится не только дотеоретическая жизнь, но и доязыковая жизнь, которая сразу же утрачивает свою изначальную, примитивную особенность с каждым выражением.
И поэтому я ставлю задачу наших дальнейших лекций: раскрыть этот обширный, великий мир внутренности сознания под руководящим взглядом теории науки и, начиная снизу и поднимаясь вверх, показать, как подлинное мышление во всех его уровнях возникает здесь, как оно мотивировано и строится в своем обоснованном достижении.
Мы хотим заняться великой, универсальной темой смыслообразования. Мы назвали мышление смыслообразующим. И мы уже отличали это смыслообразующее мышление от того, что мыслится в нем, или, как можно также сказать в этой корреляции, от мысли. Так, например, отличают указывающее мышление, указывающее интендирование – и, с другой стороны, само суждение; optative интендирование – и само желание; волевое интендирование – и само волевое содержание в интенции. Слово «интендирование» или «означание» используется для обоих; точно так же специальные слова «суждение», «желание», «решение», «вопрос» и т. д. двусмысленны. В психологическом, логическом, этическом языке Нового времени оба они неразличимо смешаны, хотя ясность и отчетливость различий, необходимых здесь, не только полезны, но и фундаментальны для всех этих дисциплин; эти различия также имеют решающее значение, особенно для чистых разграничений исследовательских областей логических дисциплин.
То, что здесь постоянно возникают искушения к смешению, показывает с самого начала, насколько важно прояснение различия. Занимаясь таким прояснением, мы сразу же открываем важные инсайты. Так, мы отличаем интендирование и интендированное значение, смыслообразующий акт и сам смысл (который тематически дан сознанию в смыслообразующем акте). Это справедливо в целом. Когда тематический акт привязан к словам, то, что имеется в виду в акте, называется смыслом слова или даже его значимостью, потому что слово означает. Но независимо от того, имеет ли акт такую функцию придания словам значимости и, возможно, способность придавать словам значимость, он имеет в себе смысловое содержание. Соответственно, мы должны освободить понятие смысла от его отношения к выражениям. Выражаясь совсем обобщенно, всякое интенциональное переживание как таковое обладает своим интенциональным смыслом: последний становится именно специфически означенным смыслом, когда эго становится субъектом, который тематически осуществляет акты и становится субъектом тематического интереса.
Давайте теперь войдем в эту сферу большей общности – в общую сферу смыслообразования и смысла; без всестороннего изучения этой сферы все попытки прояснить логику в специфическом смысле безнадежны.
10. Восприятие и перцептивный смысл.Начнем с любого внешнего восприятия. Если мы наблюдаем неизменный объект в покое, например, стоящее перед нами дерево, мы скользим по нему взглядом, то приближаемся к нему, то отдаляемся, перемещаемся то сюда, то туда, видим его то с одной, то с другой стороны. В этом процессе объект постоянно дан нам как неизменный, как тот же самый; мы видим его именно таким; и все же малейшее изменение внимания учит нас, что так называемые перцептивные образы, способы явления, аспекты объекта непрерывно меняются. В постоянном варьировании способов явления, перспектив, то есть в непрерывном изменении самого переживания восприятия, у нас есть сознание, которое проходит через них и связывает их, – сознание одного и того же объекта. Это варьирование дано сознанию, и все же оно в определенном смысле скрыто; в нормальной установке, естественной установке, направленной вовне, на вещи, мы не замечаем это варьирование осознанно.
Я говорил о повороте внимания. Точнее, я говорил о тематическом повороте взгляда и еще точнее – о рефлексии. Фактически мы говорим о рефлексии во всех случаях, когда в любом переживании сознания изначально задано нормальное направление тематического взгляда, то есть необходимая тематическая установка, служащая отправной точкой, от которой мы должны отвлечься, чтобы ухватить нечто новое в нашем переживании. Так обстоит дело с внешним восприятием.
Внешнему восприятию присуща базовая тематическая установка, а именно установка, направленная на внешний объект, который мы без лишних раздумий называем объектом восприятия. Обычно и изначально мы считаем, что внимательное восприятие, то есть эта нормальная тематическая направленность на внешний объект, принадлежит самому понятию внешнего восприятия. Но в любой момент возможна рефлексивная перемена тематического взгляда, и тогда сами перцептивные образы становятся доступными для схватывания и схваченными. В их варьировании мы затем очевидно усматриваем сквозное единство перцептивного переживания. Как бы мы ни представляли его себе временно расчлененным, мы находим его составленным из восприятий (и оно не может быть мыслимо иначе). Каждое из них имеет свое содержание явления, постоянно изменяющееся, и каждое имеет свой объект, являющийся «здесь во плоти». Но этот объект один и тот же во всех фазах и отрезках непрерывного единого восприятия; он тот же самый благодаря сквозному «совпадению» явлений, осуществляемому в самом восприятии. И он тот же самый для сознания! Не сами явления, согласно их содержанию, совпадают; они, конечно, всегда различны и разнесены во времени; и все же есть определенное «совпадение», выражающееся в этой очевидности, а именно, что в каждом из этих измененных явлений является то же самое дерево, и перцептивное интендирование, сквозное тематическое интендирование, направлено на этот в целом тот же самый объект. Теперь мы обозначим этот данный сознанию идентичный в непрерывности явлений объект предварительным понятием: смысл или объективный смысл восприятия. Заранее замечу: точно так же всякое переживание сознания несет в себе свой смысл. Это значит, что вместо того, чтобы наивно осуществлять переживание, мы можем сделать любое переживание тематическим, рефлексируя над ним; и тогда – будь то относительно временных отрезков его изменчивой непрерывности, будь то в сравнении с другими отдельными переживаниями – мы всегда можем обнаружить, что они делают возможным очевидное сознание тождественности содержания, что два сознания интендируют одно и то же. В каждом случае мы называем этот интендированный одинаковый объект объективным смыслом этих переживаний. Пока мы остаемся в рамках восприятия. Объективный смысл в нашем примере – это воспринимаемое дерево как таковое; оно интендируется во всех восприятиях очевидным образом.

