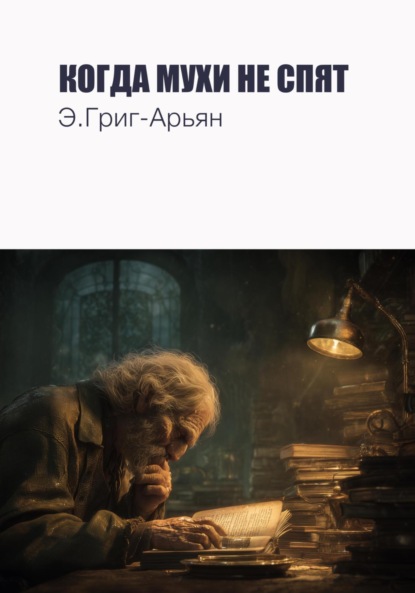
Полная версия:
Когда мухи не спят
Но даже самые высокие стены дают трещину. Или, может быть, он сам, изможденный этим бесконечным, безмолвным боем, этой войной против собственной природы, против природы всего, что есть, почувствовал эту усталость, эту необъяснимую, зудящую тоску, что заставила его покинуть свою крепость, отплыть от берегов знакомого, контролируемого мира и бросить якорь здесь. В Венеции. Городе, который сам был метафорой – прекрасной, но обреченной, сияющей, но прогнившей насквозь, городом, где красота и распад обнимались так тесно, что невозможно было понять, где заканчивается одно и начинается другое.
И тогда появился «Он». Мальчик. Тадзио. Не просто мальчик, нет. Явление. Видение. Словно весь свет, вся чистота, вся та неуловимая, ускользающая идеальность, которую Ашенбах всю жизнь пытался поймать и запереть в своих строках, вдруг воплотилась, обрела плоть, двинулась по песку, по камням, по воде, грациозная, молчаливая, совершенная. И в этот миг стена рухнула. Не с грохотом, нет. С тихим, едва слышным треском, как тонкое стекло, что лопается от внезапного перепада температур. И через эту трещину хлынуло все то, что он подавлял, все то, что запирал, все то, что отрицал.
Страсть. Не та, что возвышает, нет. Та, что унижает. Та, что сводит с ума. Та, что становится единственным содержанием бытия, вытесняя все остальное – мысли, работу, себя. Он, Густав фон Ашенбах, человек-формула, человек-порядок, превратился в тень. В преследователя. В вора, крадущего взгляды, в шпиона, подглядывающего из-за газеты на пляже, из-за колонны в холле отеля, из-за угла улицы, пахнущей смертью и жасмином. Его жизнь, такая наполненная, такая важная прежде, скукожилась до размеров одного единственного, сияющего, недостижимого объекта желания. Он больше не писал. Зачем? Слова казались бессмысленными, пустыми, когда перед ним была воплощенная, живая Поэзия, недоступная, как звезда, но притягивающая с силой черной дыры.
И город помогал его падению. Дышал ему в лицо своим смертоносным, сладким дыханием. Распространял свой секрет, свою болезнь. Холера. Слово, что звучало как приговор. Медленно, неумолимо, она ползла по каналам, по узким улочкам, проникала под двери, в легкие, в кровь. Власти врали. Улыбались, отрицали, присыпали известью зараженные места, но запах… запах нельзя было скрыть. Запах болезни, запах смерти, запах распада, что так странно переплетался с запахом его собственной, разрушающейся души.
И эти фигуры… Да, эти фигуры, которые появлялись на его пути, как зловещие вехи, как воплощения его собственных страхов, его подавленных желаний, его надвигающейся судьбы. Тот странный человек на кладбище в Мюнхене, похожий на нечто чужеродное, опасное. Старый франт на корабле, чья попытка молодиться была настолько гротескной, настолько жалкой, что выворачивало наизнанку, предвещая его собственное, Ашенбаха, унижение. Гондольер, бесшумный, жуткий Харон, везущий его по темным водам города, который сам был уже на полпути в царство мертвых. Уличные музыканты, чье пение было одновременно вульгарным и завораживающим, как сама эта страсть, что овладела им. Парикмахер, чьи манипуляции, призванные вернуть ему видимость молодости, лишь подчеркивали его жалкое, обреченное состояние. Все они были частями одного большого, мрачного карнавала, ведущего к концу.
Он знал о холере. Знал об опасности. Мог уехать. Но как? Как оторвать себя от этого сияющего якоря, что держал его на дне его собственного безумия? Уехать – значило потерять Его. И эта мысль была невыносима. Он предпочел остаться. Предпочел гнить вместе с городом, умирать вместе с его обитателями, лишь бы иметь возможность видеть Его, вдыхать тот же воздух, что и Он, быть рядом, пусть и на расстоянии, пусть и в этой мучительной, односторонней одержимости.
И вот он, на пляже. Солнце жжет. Песок горячий. Тело – лишь жалкая оболочка, сломленная, измученная болезнью, страстью, самим фактом своего существования под этим неумолимым солнцем, в этом умирающем городе. Мысли путаются. Образы наслаиваются – Аполлон и Дионис танцуют безумный танец в его горячечном мозгу, красота и разложение сливаются в одно. И в этот последний миг, когда мир уже плывет перед глазами, когда дыхание становится тонкой, рвущейся нитью, он видит Его. Тадзио. Стоящего у самой кромки воды, спиной к нему, лицом к морю. И мальчик делает жест. Поднимает руку. Указывает куда-то вдаль. В море. В бесконечность. В небытие.
И Ашенбах, Густав фон Ашенбах, человек, который всю жизнь строил, создавал, контролировал, отпускает. Сдается. Перестает бороться с жаром, с болью, с этой всепоглощающей, смертельной любовью. Его последний взгляд – на эту совершенную, безжалостную красоту, что привела его сюда, к этому концу. И он умирает. Тихо. На песке. Оставив после себя лишь имя, что когда-то было крепостью, и историю падения, что, возможно, так никогда и не будет рассказана до конца, потому что как можно рассказать историю о том, как жизнь, во всей ее неуправляемой, дикой, смертельной красоте, просто вошла и забрала тебя целиком, не оставив ничего, кроме запаха соли и гниения под палящим солнцем Венеции…
Джеймс Джойс
Река, Несущая ДублинДжеймс Джойс… «Улисс». Сидит он там, на полке, этот кирпич, этот памятник или, вернее, склеп, воздвигнутый над одним-единственным днем, днем, что ворочается в памяти, в туманной дымке, как Дублин – город, который он покинул, но который, Господи помилуй, он носил в себе, как камень в почке или как святыню, вырванную из земли предков и спрятанную под рубахой, прижатую к груди.
Начиналось-то, говорят, с малого, с какого-то там рассказика для сборника, «Дублинцы», да, вот того, про паралич, про этот город, застывший в своем убожестве и величии, в своей грязи и своем призрачном свете, который мог бы стать светом искусства, но только если вырвать его из этой трясины, вынести на себе, как добычу или проклятие. И вот этот рассказик, который должен был быть про какого-то там обывателя, похожего на Одиссея – Одиссея! – в шляпе-котелке и с портфелем, заблудившегося не в морях, а в лабиринтах улиц, в лабиринтах собственного ума, разросся… Господи, как он разросся! Как опухоль, как вселенная, как сам этот проклятый день, 16 июня 1904 года, который он растянул, раздул, наполнил всем – от запаха жареных почек до громоподобного «Да» женщины в ночи.
Почему Одиссей? Почему этот древний миф, этот герой, что плутал десять лет, чтобы вернуться к своей верной жене и своему дому, стал каркасом для истории рекламного агента Леопольда Блума, который плутает всего один день, но плутает не только по улицам, но и по всем закоулкам человеческой души, по своей собственной памяти, по своим желаниям, по своей боли? И Стивен Дедал, этот юный, гордый, измученный дух, знакомый нам по другому его творению, где он выковывал свою душу на наковальне опыта, бежал от Бога, отечества и семьи – он стал Телемахом, сыном, ищущим отца, или, может быть, просто ищущим смысл, якорь в этом безбрежном, враждебном мире. А Молли Блум… Молли. Земля. Плоть. Пенелопа, да, но Пенелопа, что не просто ждет, а живет, кипит, дышит, желает, изменяет, и чей внутренний мир – это поток, бесконечный, без знаков препинания, как сама жизнь, как сама природа, что не знает ни точек, ни запятых, только нескончаемое движение, нескончаемое «Да».
Это была не просто прихоть – взять миф. Это была необходимость. Необходимость показать, что эпическое не умерло, что оно не погребено под руинами древних цивилизаций, а живет – да, живет! – в каждом шаге обычного человека, в каждой его мысли, в каждом его вздохе, в каждом, прости Господи, позыве его тела. Это было возвышение обыденности до уровня мифа, придание каждому перекрестку в Дублине значимости Итаки, каждому пабу – пещеры Циклопа, каждому борделю – острова Цирцеи. И в то же время – это была ирония, горькая, всепроникающая, ирония над величием древности, помещенным в контекст трагической пошлости современности. Блум – не воин, он мирный человек, который пытается выжить, который страдает, который любит, который боится, который иногда смешон, иногда жалок, но который, по Джойсу, не менее достоин стать героем эпоса, чем тот, кто сражался под стенами Трои.
Но написание этого… этого монстра, этой Библии современности, заняло годы. Восемь лет. Восемь лет борьбы. Не только с материалом, который он хотел втиснуть в один день, но и с жизнью самой. С бедностью – постоянной, грызущей, заставляющей скитаться по чужим городам, преподавать, просить помощи. С болезнью – проклятой болезнью глаз, которая грозила отнять у него свет, свет, которым он видел и преображал мир. Операция за операцией, боль, страх – и при этом он продолжал писать, выцарапывать слова из темноты, из хаоса своего разума. И цензура! О, эта трусливая, слепая цензура, которая увидела в его правде о человеке только непристойность, только грязь. Части печатали в Америке, в журнале, и их тут же запретили, издателя таскали по судам. Никто не хотел браться за книгу целиком, никто из «респектабельных» издателей в Англии или Америке. Слишком опасно, слишком грязно, слишком… «слишком».
Но были и те, кто видел. Те, кто понимал, что перед ними не просто книга, а событие. Были руки, протянутые из этой литературной тьмы. Эзра Паунд – резкий, но прозорливый, один из первых, кто понял и помог пробиться. Харриет Шоу Уивер – ангел-хранитель, английская меценатка, чьи деньги давали ему возможность дышать, работать, не умереть с голоду в чужой стране. И Сильвия Бич – американка, владелица маленького книжного магазинчика в Париже, «Шекспир и Компания», места, где собирались изгнанники, искатели, те, кто чувствовал, что старый мир рушится и нужно строить новый. Она, женщина, взяла на себя этот риск, этот сумасшедший риск, и опубликовала «Улисса» в 1922 году. В Париже. На свой страх и риск. Без нее книга могла бы остаться в рукописи, ждать десятилетиями. Она дала ей жизнь. И Валери Ларбо во Франции, кто первым из влиятельных критиков возвестил миру: смотрите, что произошло!
А современники… Что ж, мир разделился. Для одних – это был шок, скандал, грязная, бессмысленная груда слов. «Отвратительно», «нечитаемо», «хаос», «порнография». Консерваторы плевались, обыватели негодовали. Книгу запрещали, жгли, прятали. Но другие… Другие, те, кто чувствовал пульс времени, кто понимал, что литература должна измениться, чтобы отразить этот новый, фрагментированный, безумный мир, они увидели в «Улиссе» откровение. Т.С. Элиот, этот строгий, надменный Элиот, назвал его «самым важным выражением», методом, который «имеет научную ценность». Вирджиния Вульф, поначалу морщившая нос от его «грубости», позже признала его гений и влияние. Хемингуэй, сам строивший свой стиль на обломках старого мира, восхищался им. Это было землетрясение, и те, кто стоял на твердой земле, почувствовали толчки и испугались, а те, кто уже плыл в открытом море модернизма, увидели, как меняется береговая линия.
А сам Джойс? Какой он был, этот человек, что осмелился заглянуть так глубоко в бездну сознания? Не герой, нет. Обычный, в чем-то даже нелепый. Суеверный до смешного, боялся грозы, собак – он, что создал Циклопа и Цербера в своем тексте. Гордый, непримиримый в вопросах искусства, готовый жить в нищете, лишь бы не идти на компромисс. Педантичный до мелочей, выверявший каждую деталь Дублина по картам, по памяти, требовавший от друзей присылать ему информацию о погоде в Дублине в тот самый день, 16 июня 1904 года! И при этом – человек, что любил петь, у него был прекрасный тенор, он мог бы стать певцом. Человек, привязанный к своей семье, к своей Норе, этой земной, неграмотной женщине, чья витальность стала источником его вдохновения и, возможно, его страданий. Человек, чья дочь сошла с ума, и эта трагедия, эта боль отца… Все это было в нем, в этом внешне сдержанном, сосредоточенном человеке, который носил внутри себя целую вселенную, готовую взорваться на страницах его книг.
И были другие книги, да. «Дублинцы» – эти холодные, ясные новеллы, как застывшие кадры из жизни, пронизанные этим самым параличом. «Портрет художника» – путь становления, бунта, бегства, написанный еще в традиционной манере, но уже с проблесками того, что придет потом. Пьеса «Изгнанники» – попытка разобраться в вечных вопросах брака и свободы, во многом о себе, о Норе. И потом… потом был «Поминки по Финнегану». Если «Улисс» – это день, то «Финнеган» – это ночь, это сон, это все языки мира, смешанные в один поток, это история человечества, семьи, грехопадения, написанная на языке, которого не существовало до него, языке, который нужно было расшифровывать, как древний манускрипт. Это его последнее слово, его уход в абсолютную глубину, в абсолютный хаос, или, может быть, в абсолютный порядок сна, который для нас, бодрствующих, кажется хаосом.
Так и стоит он там, на полке, этот «Улисс». Не просто книга, а вызов. Памятник. Лабиринт. Зеркало. Свидетельство того, на что способен один человек, когда он решает вместить весь мир, всю историю, все мысли и чувства в один-единственный день, в жизни одного-единственного города, одного-единственного человека, что просто шел по своим делам, не зная, что его шаги отмеряют ритм нового эпоса. И этот день до сих пор не закончился. Он продолжается каждый раз, когда кто-то открывает эту книгу и решается пройти его вместе с Блумом.
Женщина, не читавшая УлиссаНора, из Голуэя, где ветер с Атлантики выбивает остатки тепла из камней, где земля сырая и пахнет торфом и солью, не книжная, нет, Боже упаси, не та, что сидит с томиком на коленях, подперев подбородок, а та, что знает вес мокрого белья в руках, жар плиты, крик ребенка, усталость в пояснице после целого дня на ногах в чужом доме, в дублинском отеле, где он ее и нашел, или это она его нашла, кто теперь разберет, этот высокий, худощавый, с этим странным взглядом, полным чего-то, чего ей не понять, чего она никогда и не пыталась понять, да и зачем?
Он, Джеймс, весь из слов, из шороха бумаги, из скрипа пера, из голосов, что гудели у него в голове, как пчелы в улье, голосов Дублина, который он носил в себе, как занозу, как смертельную болезнь, от которой не было лекарства, только эти слова, слова, слова, выливавшиеся на страницы потоком, который она видела, но не слышала, не разбирала, как шум далекого моря, красивый, возможно, но бессмысленный для тех, кто не умеет плавать.
Она не читала его книг. Не могла читать их, не так, как те ученые мужи, что потом будут склоняться над ними, морща лбы, выискивая смыслы в каждой запятой, в каждой аллюзии, в каждом слове, вывернутом наизнанку. Для нее это был просто ворох бумаги, исчерченный его неровным почерком, запах чернил и табака, еще одно проявление его странности, его одержимости, с которой она просто жила. Как жила с его пьянством, с его внезапными страхами, с постоянной нехваткой денег, с переездами – Триест, Цюрих, Париж – города без корней, без своего очага, только съемные квартиры, где чужой воздух и чужие тени в углах.
Она была его якорем. Не потому, что понимала его гений – это слово, что потом будут шептать с придыханием, было для нее пустым звуком – а потому, что понимала его человека. Знала, когда он голоден, когда ему холодно, когда ему нужно просто сидеть рядом в тишине, когда его терзают демоны, которых она не видела, но чувствовала их присутствие в его напряженной спине, в стиснутых кулаках. Она знала его страхи, его мелкие слабости, его огромную, ненасытную потребность в том, чтобы она была там. Просто была. Нора. Реальная. Пахнущая домом, которого у них не было.
Эти книги… «Улисс»… название, которое она, наверное, произносила с трудом, если вообще произносила. Что ей было до этого Одиссея, до этого Блума, до этой Молли? Молли… Да, она знала, чувствовала, что что-то от нее самой, от ее тела, от ее голоса, от ее земной, неопрятной, страстной сути перекочевало на эти страницы, стало частью этого огромного, непонятного мира, который он строил. Она была сырьем. Глиной. Землей, из которой он лепил свои странные, громоздкие соборы слов. Ирония, горькая, как ирландский виски, в том, что она, сама суть его творения, никогда не увидит его завершенным, не прочтет его.
«Почему бы тебе не писать нормальные книги, Джеймс?» – возможно, она и сказала так, или только подумала, или это просто ветер принес эту фразу с болот Голуэя, фразу простой женщины, у которой есть дела поважнее, чем разбираться в лабиринтах чужого ума. Нормальные книги. Те, что читают в поезде или перед сном, те, что заканчиваются, и ты знаешь, чем все кончилось. Не этот бесконечный, громоздкий, шумный поток сознания, который был его жизнью, и который стал их жизнью, и который она просто терпела, как терпят плохую погоду или зубную боль.
Она не понимала его славы, когда она пришла, не совсем. Понимала, что это приносит деньги, что теперь не надо так сильно волноваться о завтрашнем дне, что люди смотрят на него с почтением, на ее Джеймса, того самого, что забывает, куда положил шляпу, и что запинается на лестнице. Гордость? Возможно. Смутное осознание того, что он другой, всегда был другим, с самого начала, с той первой встречи на Меррион Сквер, когда он подошел к ней, и что-то изменилось, необратимо, как сдвиг тектонических плит.
Она не понимала кем он был для мира литературы. Но она знала, кем он был для нее. Мужем. Отцом их детей, Джорджо и бедной Лючии, чья собственная тьма стала еще одной тенью в их и без того непростой жизни. Человеком, который нуждался в ее тепле, в ее простоте, в ее некнижной, животной, неоспоримой реальности, как в воздухе.
И, возможно, в этом и заключалось ее самое глубокое, невысказанное понимание. Не умом, а нутром, кровью, костями: что он, гений или нет, был бы потерян без нее. Что все эти слова, все эти миры, которые он создавал, в конечном итоге, возвращались к ней, к Норе, женщине из Голуэя, которая просто жила свою жизнь рядом с ним, не читая его книг, но являясь, сама того не зная, самой главной их главой. Тяжелой, земной, настоящей главой, без которой вся остальная история просто рассыпалась бы в пыль. И это знание, тихое, невербальное, было, возможно, тяжелее и значительнее любого интеллектуального понимания. Как вес земли под ногами, когда голова витает в облаках.
Невысказанный диалогОн говорил. О да, Фолкнер говорил это снова и снова, когда их глаза, острые, любопытные, порой даже хищные, ловили его взгляд через дым сигарет, через расстояние, через ту невидимую, но плотную стену, которую он всегда воздвигал между собой и остальным миром. Они спрашивали о влияниях, о современниках, о тех, кто тоже ворошил эту проклятую почву слов в других местах, под другим небом. И он отвечал, небрежно, с той особой, южной, слегка высокомерной вежливостью, что на самом деле была лишь еще одним слоем защиты. Он говорил, что не читает их, этих других. Что нет у него времени, нет нужды. Что его колодцы глубоки и стары, питаются не мутными поверхностными потоками модных течений, а водами Библии, грохочущими раскатами Шекспира, самой землей, ее неразрешимым горем, ее выносливостью, кровью, что пропитала ее, костями, что покоятся в ней. Он говорил, что черпает изнутри, из той необъятной, хаотичной, болезненной вселенной, что была заключена в его собственной голове, в его собственном сердце, отягощенном веками вины и гордости. Он строил свой миф, миф о гении-самородке, выросшем из почвы Миссисипи, не тронутом, не испорченном чужими, городскими, европейскими влияниями. И, возможно, в тот момент, когда он говорил это, он верил в это. Или хотел верить. Или просто хотел, чтобы они верили, чтобы оставили его в покое в его выстраданном, одиноком величии.
Но память… Память – она коварна. Она прячется, затаивается, а потом всплывает внезапно, без спроса, как утопленник на поверхность пруда. И была такая память. О Париже. О шуме, запахах, свете того особого парижского дня или вечера. Кафе. Улица. Столики на террасе. И он шел. Возможно, спешил, возможно, просто бродил, как он это умел, неприкаянный, потерянный в толпе, но всегда окутанный своим собственным, невидимым туманом. И вдруг… Он увидел его. Его. Джойса. Сидящего за столиком, погруженного в себя, в свои бумаги или в свою чашку кофе, среди этого гомона, этого движения, но словно в центре недвижной точки. Другой полюс. Другой мир. Но такой же необъятный, такой же плотный, такой же… одинокий.
Что-то оборвалось внутри. Дыхание? Шаг? Рука, потянувшаяся за пачкой сигарет, замерла на полпути. Сердце… да, оно, наверное, дрогнуло, пропустило удар, заколотилось где-то в горле. Подойти? Сказать что? «Мистер Джойс? Я… я тоже пишу.» Глупость какая. Невозможно. Слишком много всего. Слишком много сказанного, слишком много несказанного. Слишком много расстояния, не только географического. Робкость? Да, черт возьми, та самая, нелепая, детская робкость, которая никуда не делась, даже когда мир признал его. Гордыня? Возможно. Та самая, что заставляла отрицать необходимость в «других». Страх? Страх перед лицом чего-то столь же мощного, столь же подлинного, что могло бы пробить брешь в его тщательно выстроенной обороне? Он просто стоял. Смотрел. Как на явление природы, которое нельзя потрогать, нельзя приблизиться, можно только наблюдать издалека, впитывая его неоспоримое, пугающее существование. Смотрел, пока взгляд не стал невыносимым, пока что-то внутри не закричало, приказывая уйти. И он ушел. Не сказав ни слова. Не сделав шага навстречу. Оставив эту встречу лишь призраком в лабиринтах своей памяти.
А потом… потом пришло время, когда его собственное дыхание стало лишь слабым, прерывающимся шепотом, а затем и вовсе затихло. Дом опустел. Остались вещи. Остались книги. Безмолвные свидетели прожитой жизни, выстраданных слов, тайных мыслей. И вот там, среди них, среди этих корешков, знакомых и истертых, обнаружилась Она. Та Самая. Тяжелая, внушительная, пришедшая из того самого мира, из того самого города, от того самого человека, которого он видел, но к которому не подошел. «Улисс». Книга, чье имя он произносил с легкой насмешкой или полным безразличием.
И она не была чиста. О, нет. Она была… населена. Изрезана, испещрена, помечена, как старинная карта сокровищ или поле боя, где велась ожесточенная, но невидимая битва. Его почерк – быстрый, сильный, порой небрежный, порой удивительно точный – метался по полям, подчеркивал целые абзацы, ставил вопросительные знаки, восклицательные знаки, короткие, резкие комментарии, слова, которые были похожи на бормотание, на спор, на признание. Это не было просто чтение. Эта была «борьба». Это было «погружение». Это был «диалог», который он не смог или не захотел вести вслух, лицом к лицу на парижской террасе, но который вел здесь, в одиночестве своей комнаты, страница за страницей, час за часом, ночь за ночью. Он впитывал, он отвергал, он соглашался, он спорил, он учился, он отталкивался, он позволял этому чужому, мощному потоку вливаться в его собственные, уже бурные воды.
Это было неопровержимое доказательство. Тихое, скрытое, найденное лишь после того, как защитник покинул крепость. Доказательство того, что он не просто знал, не просто мельком взглянул из любопытства, а погрузился в этот океан чужого сознания, чужого города, чужой, но такой же универсальной человеческой комедии и трагедии. Это было опровержение всех его слов, всех его отрицаний, всего того мифа о самодостаточности, который он так старательно выстраивал.
И в этом была такая… такая пронзительная, такая глубокая, такая «южная» правда. Правда о том, что мы говорим миру, и правда о том, что происходит внутри, в тайных комнатах души. Правда о бремени знания, о бремени влияния, о бремени быть частью чего-то большего, чем ты сам, даже если ты хочешь стоять особняком. Правда о человеке, с его противоречиями, его гордыней, его робкостью, его скрытыми страстями и признаниями. Как старые семейные тайны, что хранятся под замком, но чьи тени все равно падают на порог дома, рассказывая свою историю тем, кто умеет видеть.
Да. Так это и было. Сложно. Многослойно. Неожиданно. И так… так совершенно «он». Человек, который отрицал мир, пока боролся с ним в тишине своей библиотеки. Человек, который строил стены, пока тайно прокладывал тоннели под ними. Уильям Фолкнер. Бремя… Бремя гения. Бремя человека. Бремя Юга. И бремя «Улисса», тихо лежащего на столе, помеченного его рукой, как немой, но красноречивый свидетель этой тайной, глубокой связи.
Герман Гессе
Эхо Степного волкаАх, да. «Степной Волк». Не просто книга, говорю тебе. Никогда не была ею, ни на одну проклятую страницу. Это было… это было как вскрыть вену и дать крови хлынуть на бумагу, чернила смешивались с чем-то более плотным, более жгучим, чем просто чернила – с болью, с отчаянием, с тем глухим, ноющим чувством, которое поселяется в груди, когда понимаешь, что потерял не просто кого-то, а, возможно, последнюю нить, связывающую тебя с миром, с теплом, с чем-то, что не было тобой самим, твоим проклятым, вечно сомневающимся, вечно отстраненным «я».
Герман Гессе. Да, имя автора. Столп литературы, мудрец, отшельник из Монтаньолы. Но в те годы, в те самые годы, когда рождался этот зверь, этот Волк, он был не столько мудрецом, сколько раненым животным, запертым в клетке собственного черепа, в тихом, проклятом тишиной доме где-то в Швейцарии. Дом стоял, наверное, среди холмов, или у озера, спокойный снаружи, с аккуратным садом, все как положено. Но внутри… внутри был не дом, а пыточная камера души. Каждый предмет, каждая тень в углу, каждый звук, или, вернее, отсутствие звука, кричало о ней. О Рут.



