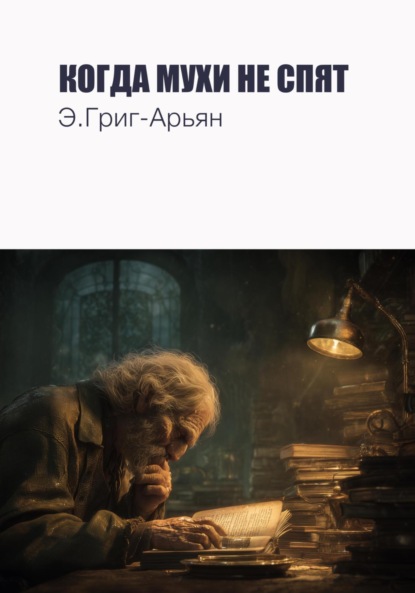
Полная версия:
Когда мухи не спят
И Гоген приехал. Да, он приехал. В ту осень, когда воздух уже начинал остывать, но земля все еще хранила летний жар, он явился в этот Желтый дом – дом, который Винсент видел не просто стенами и крышей, а символом, золотистой колыбелью для их мечты, для их «Мастерской», для этого, как он говорил, будущего. И поначалу… о, поначалу это было что-то. Две силы, два вихря, запертые в четырех стенах, спорящие, кричащие, смеющиеся, мажущие краску, дышащие скипидаром и пылью, видящие мир – каждый по-своему, и в этом была вся беда – с какой-то нечеловеческой, пронзительной ясностью. Винсент – весь нерв, вся плоть, весь крик цвета, работающий так, словно за ним гнался сам дьявол, пытаясь поймать мимолетное мгновение, жар солнца на лице крестьянина, изгиб кипариса под ветром, – все «здесь и сейчас», на холсте, густым, скульптурным мазком. А Гоген – Гоген был другим. Более холодный, более расчетливый, с глазами, которые видели не только то, что есть, но и то, что могло бы быть, или что означало то, что есть, уходящий в свои символы, в свое воображение, в какие-то далекие, еще не виденные им земли.
И это не могло долго продолжаться. Не могло. Как два камня, брошенные в один мешок, они начали тереться, скрежетать, отбивать друг у друга острые края. Споры об искусстве? Да, были споры, но это было больше, чем искусство. Это был спор двух мировоззрений, двух температур души. Винсенту нужна была близость, понимание, братство, он раскрывался, как цветок под дождем, требуя ответа, требуя такой же отдачи. Гогену нужна была дистанция, собственное пространство, собственная тишина, он был как скала, о которую разбивались волны этой чудовищной, этой всепоглощающей потребности Винсента в признании, в любви, в этом общем дыхании. Воздух в доме становился густым, липким, пропитанным невысказанными обидами, растущим раздражением, чувством ловушки. Желтый дом, символ надежды, превращался в золотистую клетку.
А потом… потом был вечер. Тот вечер, о котором говорят шепотом, или не говорят вовсе. Причины? Кто знает причины безумия? Ссора? Да, говорят, была ссора. Из-за чего? Из-за денег? Из-за женщины? Из-за мазка кисти? Из-за слова, брошенного слишком резко, слишком правдиво, попавшего прямо в открытую рану? Или просто потому, что напряжение стало невыносимым, как струна, натянутая до предела, готовая лопнуть? И она лопнула. Не струна. Что-то внутри него лопнуло. Гоген ушел той ночью, ушел, спасаясь, или просто уходя от того, что стало невыносимым. А Винсент…
О, Господи. Винсент. В той темноте, один в Желтом доме, где еще совсем недавно горел огонь его надежды, он взял бритву. Почему? Чтобы наказать себя? Чтобы наказать Гогена? Чтобы выпустить боль, которая жгла его изнутри сильнее, чем провансальское солнце? Чтобы принести жертву этой своей провалившейся мечте? Никто не знает. Только кровь на полу, и эта, эта ужасная, немыслимая часть его самого, отрезанная, словно ненужный лоскут, и отнесенная – кому? – женщине в борделе, в этом притоне забвения и отчаяния, как странный, кровавый дар, как печать его боли, оставленная миру.
И Гоген уехал. Уехал и не вернулся. Дверь захлопнулась. Мастерская Юга… о, она никогда и не открывалась по-настоящему. Остался только Винсент, с его раной, с его кровью, и с этим, пришедшим теперь уже в полную силу, «безумием». Не просто грусть, не просто странности, нет. Это были приступы. Волны тьмы, накатывающие и отступающие, оставляя его истощенным, дрожащим, иногда смутно помнящим, что произошло, иногда – нет. Госпитали. Белые стены, голоса, которые он слышал, тени, которые он видел. Его разум, этот некогда яркий, пронзительный инструмент, теперь был как разбитое зеркало, отражающее реальность в пугающих, искаженных фрагментах.
Но даже тогда… даже тогда он работал. В промежутках между приступами, когда наступало краткое, хрупкое затишье, он хватался за кисти, как утопающий за соломинку. И краски на холсте становились не просто цветами, нет. Они становились криком, молитвой, исповедью, попыткой удержать мир, который рассыпался у него на глазах. Вихри на небе, деревья, извивающиеся, как живые существа, портреты, в глазах которых застыла вся боль мира. Это было не искусство «безумия», нет. Это было искусство «вопреки» безумию. Искусство, рожденное из самого горнила страдания, попытка найти красоту и смысл там, где остался только хаос и мрак.
И так до самого конца. До того поля под Овером, до выстрела – или это был выстрел? – до этой последней, тяжелой тишины, которая наконец опустилась на его измученную душу. Дружба? Мастерская? Безумие? Все сплелось в один тугой, трагический узел под этим равнодушным южным небом, оставив после себя только холсты, которые до сих пор кричат о прожитой боли и увиденной красоте, кричат так, как мог кричать только он, человек, который сгорел в собственном огне, пытаясь осветить мир.
Ночь в АрлеПогрузимся глубже в омут чувств, вихрь цвета и боли, где логика тает, как утренняя дымка под палящим солнцем, и остается лишь нагая, пульсирующая реальность внутреннего ада.
Давление. Не просто давление, как сжатый кулак на груди, нет, это было нечто иное, нечто, что не имело веса, но обладало удельной плотностью расплавленного свинца, что накатывало волнами, не звука, но цвета, кричащего, вибрирующего желтого. Не тот теплый, ласковый желтый подсолнухов, который он пытался уловить, запечатлеть, приручить на холсте, нет. Этот был другой – едкий, разъедающий, цвет хрома, смешанного с лихорадкой, цвет безумия, просачивающийся сквозь поры кожи, через кости черепа, заполняющий собой все пространство между мыслями, между ударами сердца. Мир снаружи, Арль, с его невыносимо синим небом, с его равнодушными оливковыми рощами, с его мещанской, самодовольной нормальностью, казался картонной декорацией, тонкой, хрупкой скорлупой, натянутой над бездной. И бездна эта была он сам, Венсан, чья кровь была не жидкостью, а кипящим, переливающимся через край котлом чувств, чьи нервы были оголенными проводами, по которым шел ток слишком высокой частоты, готовыми перегореть от малейшего прикосновения – взгляда, слова, шороха травы.
Поль уехал. Уехал, оставив после себя не просто пустой стул, но зияющую дыру в самой ткани бытия, вакуум, который мгновенно заполнился этим самым давлением, этой желтой, кричащей пустотой. Его уход был не просто отъездом друга, нет, это было крушение мира, разрушение хрупкой, иллюзорной плотины, сдерживавшей поток. И теперь поток требовал выхода, требовал прорыва, требовал… разрыва. Разрыва с миром, который стал невыносим, мира, который проникал внутрь через все поры, через все чувства, усиливая внутренний грохот до оглушающего рева.
Ухо. Этот нелепый, мясистый завиток, эта антенна, ловящая шепот ветра в кипарисах, стук каблуков по мостовой, равнодушные голоса прохожих, смех детей, слишком яркий, слишком острый для его воспаленного слуха. Оно стало символом этой связи, этой пористой границы, через которую просачивалось все, что питало огонь, делая его только яростнее, только больнее. Отделить его, отрезать, заставить замолчать эту часть себя, которая служила проводником в реальность, ставшую невыносимой – в этом был свой, дикий, извращенный смысл. Это был акт самоампутации души, попытка отсечь орган, который передавал сигналы боли. Это была не просто плоть, это была часть слуха, часть восприятия, которую он больше не мог выносить.
Бритва. Холодная сталь. Не просто холодная, а холодная с той пронзительной чистотой, что предвещает боль. В дрожащей руке, отражающая в своем тусклом, матовом блеске лицо, которое уже не было его лицом, а маской агонии, освещенной мерцающей лампой в темной комнате. Не было боли сразу. Был шок, чистое, белое мгновение небытия, а потом – звук. Резкий, влажный, как будто рвется не плоть, а сама реальность, как будто отрывается корень, глубоко ушедший в почву. А потом пришло тепло. Невыносимое, липкое, пульсирующее, живое тепло. Кровь. Цвет, который он знал лучше, чем любой другой – не просто алый, нет, это был глубокий, почти черный в тени, насыщенный, живой, рассказывающий истории о земле, о корнях, о страсти, о страдании, о смерти. Он видел его на своих палитрах, на своих холстах, цвет киновари, смешанный с жженой сиеной, и вот теперь он был на его руке, на полу, на тряпке, которой он неуклюже пытался остановить поток, поток жизни, утекающий из него. Это была его собственная киноварь, его собственная жженая сиена, выплеснувшаяся наружу.
И вот он стоял, с этим теплым, окровавленным свертком в руке, похожим на странный, уродливый цветок, срезанный в темноте, или на комок мяса, отгрызенный диким зверем. Куда идти? К кому нести этот ужасный трофей, этот кровавый символ поражения и странной победы? К Тео? Нет, Тео слишком далек, слишком погружен в свой мир рам и сделок, в мир, где искусство – это товар, а не крик души. Тео увидит лишь безумие, лишь провал, лишь очередное доказательство того, чего он всегда боялся в своем брате. К врачу? Чтобы тот залатал, сшил, вернул, заставил снова слушать мир, который разрывал его на части? Нет.
Он пошел туда, где границы были размыты, где реальность была товаром, где человеческое общение было сведено к примитивному обмену, где маски были плотнее лиц. В бордель. Не в свой «Желтый дом», который теперь казался насмешкой, а в другой желтый дом, тот, что мерцал тусклым, маслянистым светом в конце улицы, куда стекались тени города, куда приходили те, кто искал забвения или чего-то, что можно было купить и выбросить.
Почему туда? Почему к ней? К одной из тех женщин, чьи лица были стерты усталостью и слоем дешевой пудры, чьи глаза видели слишком много, чтобы удивляться чему-либо, чьи уши были, по сути, мусорными корзинами для чужих историй, чужих желаний, чужого бреда? Возможно, именно поэтому. Потому что она была вне суждений, вне «нормального» мира с его правилами и приличиями. Она была на краю, как и он сам. Она была вынуждена слушать, принимать, кивать, независимо от того, насколько диким, насколько бессмысленным, насколько болезненным был рассказ. Ей платили не только за тело, но и за терпение, за роль исповедницы без святости, психотерапевта без диплома, за способность выносить чужую тяжесть, не ломаясь самой.
Или, может быть, это был акт отчаянной, искаженной щедрости? Он отрезал часть себя, часть, которая была для него слишком болезненной, слишком громкой, и принес ее туда, где части тел, где фрагменты жизни покупались и продавались. Это был его дар, его страшный, кровавый подарок – не символ любви, не требование страсти, но нечто из него, нечто реальное, осязаемое, болезненное, врученное кому-то, кто, возможно, впервые за долгое время, получил нечто, что не было просто имитацией чувства, не было просто транзакцией. Это было экзистенциальное подношение, акт передачи части своей бытийности, части своей боли, кому-то, кто обитал в мире, где бытийность часто сводилась к нулю. Он был одинок в своем безумии, в своем гении, в своей способности видеть мир в таких цветах, которые сжигали сетчатку. И в этой бездне одиночества, где не было эха, где слова падали в пустоту, он искал кого-то, кто мог бы принять эту часть его, кто мог бы стать свидетелем его внутреннего распада, не пытаясь собрать его заново. Проститутка. Женщина, чья профессия – быть временным, оплаченным свидетелем чужой жизни. Кто еще мог бы понять, или хотя бы принять, нечто столь же оторванное от «нормального» мира, как отрезанное ухо?
Он вошел. Воздух был густым и тяжелым, насыщенным приторным запахом дешевой помады, кислым запахом пролитого вина, тяжелым запахом пота и смутным, неуловимым запахом отчаяния. Музыка играла где-то приглушенно, монотонно, как сердцебиение больного мира. Голоса смешивались в неразборчивый гул, похожий на роение насекомых. Он нашел ее – Рашель. Или Габи. Или Мари. Имя не имело значения. Имело значение лишь усталое спокойствие в ее глазах, спокойствие человека, который видел слишком много, чтобы удивляться чему-либо, но недостаточно, чтобы перестать чувствовать. Она сидела за столиком, свет лампы падал на ее лицо, подчеркивая тени под глазами и жесткую линию губ.
Он подошел. Ее взгляд скользнул по нему, равнодушный, оценивающий. Он не был похож на обычных посетителей. В его глазах горел огонь, который она видела лишь у тех, кто дошел до края.
Он протянул ей сверток. Рука дрожала. Кровь просочилась сквозь ткань, оставив темное, влажное пятно.
– Это…, – пробормотал он, и голос его был хриплым, чужим, как будто он говорил на незнакомом языке. Слова выходили с трудом, выталкиваемые из груди вместе с желтой вибрацией, запертой внутри. – Это… для вас.
Она посмотрела на сверток, потом на его лицо, на его перевязанную голову. Бровь чуть приподнялась, но в глазах не было ни страха, ни любопытства, только усталое ожидание.
– Что это? – Голос у нее был низкий, безэмоциональный, как будто она спрашивала о цене напитка.
– Это…, – он запнулся. Как объяснить? Как выразить словами то, что было актом абсолютной, невыносимой экзистенциальной боли? – Это… то, что слушало. Слишком много. Слишком громко. – Он посмотрел на нее, его взгляд был одновременно острым и расфокусированным. – Мир… он слишком шумит. Слишком много цвета… слишком много боли. А это… это слушало. И теперь… теперь оно ваше.
Он осторожно, благоговейно положил сверток на стол перед ней.
Она медленно, очень медленно, развернула ткань. Ее пальцы, привыкшие к прикосновениям другого рода, на мгновение замерли. Увидела. Кровь. Кусок плоти. Этот нелепый, узнаваемый контур.
На мгновение. Лишь на одно краткое, ужасное мгновение ее лицо потеряло свою усталую маску, стало просто человеческим лицом, искаженным шоком, отвращением, неверием. Глаза расширились. Губы приоткрылись, чтобы выдохнуть беззвучный крик.
– Боже мой… – вырвалось у нее, шепотом, который был громче любого крика в этом душном помещении. – Что… что вы сделали?
Он смотрел на нее, ожидая. Ждал чего? Понимания? Ужаса? Отторжения? Он не знал. Он лишь знал, что должен был это отдать. Отдать эту часть себя, которая стала чужой, болезненной, кому-то, кто мог бы принять ее без осуждения мира, который он больше не мог выносить.
– Я… я не мог больше слушать, – повторил он, как заведенный. – Желтый… он кричал. А Поль уехал. И тишина… тишина кричала еще громче. Это… это то, что осталось.
Она смотрела на окровавленный кусок плоти на столе, потом на его перевязанную голову, потом снова на ухо. В ее глазах боролись профессиональная усталость, которая велела оставаться спокойной, и первобытный ужас перед тем, что она видела. Она работала в мире, где видели многое, но такое… такое было за гранью даже этого мира.
– Уберите это, – сказала она наконец, голос ее дрожал, но она пыталась вернуть ему прежнюю ровность. – Я… я не могу это взять.
– Но почему? – В его голосе звучало искреннее недоумение. Он отдал ей часть себя, часть своей боли, часть своего безумия. Разве это не было самым честным, самым реальным обменом, который он мог предложить в этом мире фальши? В мире, где люди платили за иллюзию близости, он давал ей осязаемую, кровавую реальность.
– Почему? – Она засмеялась, коротким, нервным смешком, который тут же оборвала. – Потому что это… это безумие! Это… это часть вас! Я не могу взять… часть человека. Я… я беру деньги. За время. За… за кое-что другое. Но не… не это.
Ее отказ был ударом. Не болью, нет, боль была внутри, боль была желтой. Это был удар по его искаженной логике, по его отчаянной попытке установить связь, отдав часть своего одиночества, своего страдания. Даже здесь, на краю, его дар был отвергнут. Его экзистенциальное подношение оказалось слишком тяжелым, слишком реальным даже для мира, который торговал реальностью.
Он смотрел на нее, на ее лицо, в котором усталость снова начала брать верх над шоком. В ее глазах не было понимания, не было сочувствия, только… истощение. И, возможно, страх. Страх перед человеком, который принес ей часть своего тела, как будто это был букет цветов.
И в этот момент он понял. Он был одинок. Абсолютно, невыносимо одинок. Его внутренний мир был вселенной, которая расширялась, пожирая его самого, и не было никого, кто мог бы войти в эту вселенную, никого, кто мог бы понять ее язык, язык цвета и боли, выраженный в таком ужасающем, физическом акте. Даже здесь, в мире, где человеческая связь была сведена к примитивному обмену, его попытка обмена – обмена своей болью, своей оторванностью, своим слухом – потерпела крах.
Он поднял сверток. Он снова стал просто куском плоти, тяжелым, теплым, бессмысленным вне контекста его собственного пылающего разума.
– Хорошо, – прошептал он. – Хорошо.
Он повернулся и вышел из борделя, оставив ее сидеть за столом, глядя на темное пятно крови на ткани, на пустое место, где только что лежало нечто, что было частью человека. Воздух снаружи показался холодным и чистым после душной атмосферы внутри, но холод этот не проникал внутрь, где все еще бушевал желтый пожар. Он шел по улице, не зная куда, сжимая в руке свой ужасный сверток, свой символ одиночества, своего оторванного слуха, который никто не захотел принять. И в этой ночной тишине, которая казалась еще более оглушающей из-за отсутствия одного уха, он был наедине с собой, со своим безумием, со своим искусством и со своим абсолютным, невыносимым одиночеством. Одиночеством настолько глубоким, что оно требовало физического доказательства своего существования. И вот оно было. В его руке. Теплое и окровавленное.
Пшеничное Поле и Дым от Трубки…и пыль, та самая пыль Овера, или как там называлась эта деревня, что прилипала к подолам платьев женщин, к подошвам его собственных башмаков, к краям холста, когда ветер поднимался над полями, теперь прилипала к потной коже на его лбу, смешиваясь с той липкой влагой, что выступила на губах, когда он, сгорбившись, ползком, преодолевал последние метры до двери, до двери этой проклятой гостиницы, где запахи кислого вина и вчерашнего супа всегда висели в воздухе, где он нашел временное пристанище, или, быть может, временную тюрьму, после стен лечебницы, после желтого дома, после уха, которое он отдал, или которое у него взяли, уже неважно, все это было частью одного долгого, тягучего дня, который начался не с восходом солнца, а с первого вздоха, с первой капли света, упавшей на сетчатку глаза, с первого цвета, который он пытался ухватить, поймать, прибить к холсту, пока он не ускользнул, как вода сквозь пальцы, как смысл, который всегда был чуть дальше, за горизонтом, за следующим мазком.
Он держался за живот. Левая рука, или правая, уже не имело значения, лишь смутное ощущение влажной теплоты, расползающейся под грубой тканью куртки. Не обвиняйте никого, сказал он, или хотел сказать, или подумал, когда Гюстав Раву, этот добрый, но немного недоуменный человек, чьи руки пахли пивом и табаком, показался в дверном проеме, его лицо, казавшееся слишком большим в слабеющем свете, выражало сначала обычную приветливость, затем удивление, затем что-то, что могло быть тревогой, или просто неудобством. Я ранил себя, вот что он сказал. Или это было сказано позже? Время здесь, в Овере, как и в Сен-Реми, как и везде, где он пытался найти покой, было не прямой линией, а прудом, где круги расходились от брошенного камня, возвращаясь и накладываясь друг на друга.
Ранил себя. Эти слова, такие простые, такие окончательные, как последний мазок на картине, который ставит точку, или как петля, которая затягивается. И это было правдой, не так ли? Он был ранен. Рана была там, горящая, пульсирующая, обещающая конец. Вопрос лишь в том, кто держал оружие. Он сам? Его собственная рука, дрожащая, возможно, от страха или решимости, направляющая ствол к своему телу, к центру боли, к животу, месту, где гнев и голод, одиночество и отчаяние скручивались в тугой узел? Это было бы логично, не так ли? После всех этих лет борьбы, после голосов в голове, после приступов, когда мир распадался на острые, болезненные осколки, после писем Тео, полных заботы, но и усталости, после рождения маленького Винсента, племянника, названного в его честь, что было и благословением, и новым грузом, новым напоминанием о том, что жизнь продолжается, требует, тянет, а он… он лишь обуза, камень на шее брата, который и так едва держится на плаву в этом бурном море парижской суеты, парижских денег, парижских картин, которые почему-то не продаются, не так, как должны бы.
Теория самоубийства. Она висела в воздухе, тяжелая, как предгрозовое небо. Доктор Гаше, этот странный, нервный человек с красным носом и шляпой, похожей на помятый гриб, пришел, посмотрел, пощупал. Пуля засела глубоко. Слишком глубоко, чтобы вытащить здесь, в этой глуши, без надлежащих инструментов, без чистой операционной, без надежды, которой, возможно, и не искали. Гаше, который сам казался более больным, чем пациент, который говорил о своем искусстве и своей меланхолии, был ли он тем, кто мог помочь? Или он был лишь еще одним отражением его собственного отчаяния?
Но была и другая история, шепот, который проносился над полями вместе с ветром, история, которая не ложилась на привычные рельсы страдающего гения, доведенного до последней черты. Что, если не он? Что, если это были они? Те мальчишки, Раву или их друзья, которые шатались по окрестностям с ружьем, старым, ржавым, предназначенным, может быть, для ворон, а может, просто для мальчишеских игр, для демонстрации силы, для того, чтобы помучить странного художника, который бродил по полям, разговаривая сам с собой, который выглядел не от мира сего, легкая мишень для подростковой жестокости, для глупости, для случайного выстрела, который прозвучал не как выстрел судьбы, а как резкий, неожиданный хлопок, нарушивший тишину летнего дня?
Пуля в живот. Не в висок, не в сердце. В живот. Медленная, мучительная смерть. Неужели тот, кто хотел покончить с собой, выбрал бы такой путь? И ружье. Где оно? Если он выстрелил в себя, где револьвер? Он не принес его обратно. Он не был найден рядом с тем местом, где, по его смутным словам, это произошло – там, в поле, среди колосьев, золотых под солнцем, которые он любил больше, чем людей, потому что они были честны в своем росте, в своем стремлении к свету. Ружье исчезло, как будто его никогда и не было, как будто его унес ветер, или спрятал кто-то, кто не хотел, чтобы его нашли.
И его слова: «Не обвиняйте никого». Могли ли они быть не признанием вины (своей собственной), а просьбой о прощении (для кого-то другого)? Для мальчишек, которые, возможно, испугавшись, убежали, оставив его истекать кровью в поле? Мог ли он, Винсент, который всю жизнь чувствовал себя изгоем, понять их страх, их панику, и решить, что его собственная жизнь, такая полная боли и разочарований, стоит меньше, чем их будущее, их свобода от тюрьмы или позора? Мог ли он, видя в этом ранении неизбежный конец, который он, возможно, подсознательно желал, принять его, как принимают дождь или солнце, как принимают болезнь или одиночество?
Он лежал в своей маленькой комнате, на втором этаже, где стены были тонкими, и можно было слышать жизнь гостиницы внизу – голоса, шаги, звон посуды. Тео приехал. Тео, его якорь, его единственный настоящий друг, его брат, чья любовь была единственной константой в этом хаотичном мире. Тео сидел рядом, его лицо было бледным, глаза полны тревоги и невысказанного горя. Они говорили. Или просто были рядом. Курили. Дым от трубки, горьковатый, знакомый запах, наполнял комнату.
«Печаль будет длиться вечно», сказал Винсент. La tristesse durera toujours. Последние слова. Это могло быть подтверждением самоубийства – признание вечной меланхолии, которая наконец взяла свое. Или это могло быть просто констатацией факта – печаль о жизни, которая так и не сложилась, о красоте, которую он видел, но не мог полностью передать, о любви, которую давал, но не получал в ответ в той мере, в какой нуждался. Печаль о брате, который теперь останется один с этим грузом, с его картинами, которые никто не покупает, с его памятью.
Тео держал его руку. Чувствовал, как жизнь медленно уходит, как свет меркнет в глазах, которые видели больше цветов, чем глаза любого другого человека на земле. Он умер на руках Тео, в ранние часы вторника, 29 июля 1890 года. В тишине, нарушаемой лишь дыханием Тео и тиканьем часов где-то внизу.
И вот он лежит там, на кладбище в Овере, под солнцами, теми самыми, которые он так любил писать, под простым камнем, рядом с Тео, который последовал за ним всего через полгода, не выдержав потери, не выдержав бремени. А правда о том дне, о том выстреле, о ружье, которое исчезло, она осталась там, в поле, среди пшеницы, под небом, которое он так часто пытался поймать на свой холст. Захороненная под пылью Овера, под слоями домыслов и воспоминаний, под тяжестью той печали, которая, как он и предсказал, длится вечно. И никто, ни историк, ни биограф, ни даже дух самого Винсента, блуждающий над этими полями, уже не сможет сказать с полной уверенностью, была ли это рука судьбы, рука болезни, или чья-то другая рука, дрогнувшая в тот летний день, что поставила последнюю, роковую точку в жизни, которая была слишком яркой, слишком болезненной, слишком полной цвета для этого бледного мира. И это стало частью его последней, неразгаданной картины.



