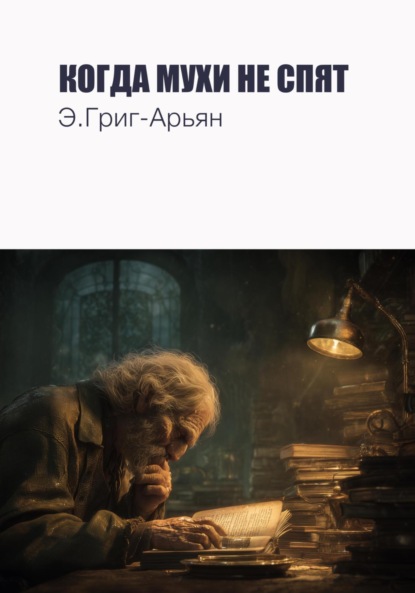
Полная версия:
Когда мухи не спят
Поль Верлен
Проклятый ТанецВерлен и Рембо… да, вы слышали, конечно, слышали, и слушать будете, пока есть на свете хотя бы одна душа, способная обжечься о строчку стиха или о чужую жизнь, потому что история их – это не просто история, это символ, это проклятие, это предостережение и восхищение в одном флаконе, разбитом и воняющем спиртом и порохом. Она как заноза под кожей времени, как гнойная рана, что не затягивается, а лишь ноет и пульсирует под всей этой парижской пылью, лондонской грязью и брюссельским дождем.
Началось все, говорят, с клочка бумаги… да, с «письма». Нежного? Нет. Робкого? Никогда. Это был удар, вызов, молния, посланная тем юным, еще не оперившимся, еще не до конца прогнившим, но уже «видящим» гением, этим мальчишкой из провинции, этим Рембо. Семнадцать лет, господи милостивый! И он уже видел ад, чувствовал его смрад на своих губах, его жар в глазах. Он послал это письмо тому другому, Верлену, уже известному, уже погрязшему в собственном болоте брака, меланхолии и тихого, удушающего отчаяния, но еще способному узнать огонь, когда тот бьет в глаза, способному услышать зов бездны, когда она шепчет его имя через строки, через этот нечеловеческий, этот «слишком» человеческий крик, заключенный в словах юнца. Словах о «Видении», о новом языке, о поэзии, что должна быть «ясновидящей», о жизни, что должна быть «прожита», а не прозябать.
И Верлен… да, он ответил. Он не просто ответил, он распахнул дверь. «Приезжайте, дорогая великая душа…» – или что-то вроде того. Слова, что стали ключом, повернувшим замок на вратах ада. Или рая. Или и того, и другого одновременно, ибо для них, для «них» это было одно и то же, понимаете? Смесь божественного и дьявольского, красоты и уродства, жизни и смерти.
И он приехал. Ворвался. Не вошел тихо, а «ворвался», как сквозняк с кладбища, как чума, как откровение, как ураган, вырванный из недр земли. В этот тихий, или пытающийся казаться тихим, дом Верлена, где жила жена, молодая Матильда, с ее животом, обещавшим жизнь, обещавшим будущее, обещавшим спокойствие, которого Верлен так боялся и так желал одновременно. И этот мальчишка, этот Рембо, пришел «украсть» это будущее, пришел «сжечь» этот уют, пришел «растоптать» все просто своим присутствием, своей необузданностью, своим гением, своим «запахом» свободы и разложения. Его взгляд, говорят, был таким, будто он видел тебя насквозь, видел всю твою ложь, все твои страхи, и презирал тебя за них. Он плевал на условности, на чистоту, на приличия. Он был воплощенным вызовом.
И с этого момента все покатилось… вниз? Вверх? Кто знает, куда ведет такая страсть, такая одержимость, такая совместная безумная пляска на краю бездны. Они стали двумя планетами, сорвавшимися с орбит, обреченными на столкновение. Париж, Лондон, Брюссель… не потому, что они искали место, а потому, что «место» не могло их удержать. Ни один город, ни одна квартира, ни одна страна не могла вместить эту бушующую энергию, этот взаимный яд, которым они питались, становясь все сильнее и все более разрушенными одновременно.
Бутылка абсента в одной руке, перо, царапающее бумагу, в другой. Крики, что сменялись шепотом, пощечины, за которыми следовали поцелуи, проклятия, переходящие в строки бессмертных стихов. Матильда… бедная Матильда… ее присутствие лишь усиливало накал. Она была живым укором, якорем, который Верлен отчаянно пытался отрубить, но который все тянул его назад, к той «нормальной» жизни, которую он уже не мог вынести. Рембо видел ее лишь как препятствие, как символ той пошлости, от которой он спасал (или губил?) Верлена. «Твоя жена… она как мебель. Скучная, пыльная мебель,» – мог бросить он, сидя напротив Верлена, с циничной усмешкой в глазах, и эти слова жалили Верлена сильнее любого удара.
И вот апогей. Да, апогей всего этого безумия, всей этой любви-ненависти, всего этого гениального саморазрушения. Жаркое брюссельское лето. Душная комната в отеле «Отель де ла Вилье». Воздух сперт от вчерашнего пьянства, от накопившихся обид, от предчувствия конца, которое витало между ними уже давно, как запах тления.
Ссоры стали невыносимыми. Слова летали, как битое стекло. Рембо, всегда готовый к разрыву, всегда на шаг впереди в своей жестокости, объявил, что уходит. Окончательно. Ему надоела эта жизнь, надоел Верлен, его слабость, его метания.
– С меня хватит, Верлен! – голос Рембо, резкий, как удар хлыста. Он стоял у окна, спиной к комнате, к Верлену. Свет с улицы падал на его тонкую фигуру, делая ее призрачной. – Эта твоя тоска, твои слезы, твои обещания… Они меня душат! Я ухожу. В Африку, на край света, куда угодно, лишь бы подальше от тебя и от этой… этой жалкой пародии на жизнь!
Верлен сидел на кровати, помятый, с опухшим от слез и алкоголя лицом. Его руки дрожали. – Ты не можешь… Ты не можешь уйти! – прохрипел он. – Куда ты пойдешь? Что ты будешь делать? Ты пропадешь без меня! Ты же ребенок, Рембо! Проклятый, гениальный ребенок, но ребенок!
Рембо обернулся, и в его глазах не было ни жалости, ни сомнения. Только холодная, божественная усталость. – Ребенок? Я видел больше, чем ты увидишь за всю свою ничтожную жизнь, Верлен. И я устал. Устал от тебя. От твоей слабости. От твоей… любви. Она как тюрьма.
– Любовь? – Верлен вскочил. – Ты называешь это тюрьмой? А что же тогда свобода, Артур? Бродяжничество? Смерть в одиночестве?
– Возможно, – пожал плечами Рембо. – Но это будет моя смерть. Мое одиночество. Не наше. Наше… оно смердит.
И тут Верлен сломался. Окончательно. Что-то оборвалось внутри. Весь этот груз – Матильда, общество, собственная неспособность быть «нормальным», и главное – страх потерять этого демона, этого ангела, эту свою погибель и спасение в одном лице. Он не мог вынести мысли, что Рембо просто уйдет, оставив его одного с пепелищем его жизни.
В его руке появился пистолет. Тот самый, который он купил накануне. Зачем? Чтобы покончить с собой? Чтобы убить его? Чтобы просто «прекратить» все это, остановить этот безумный танец? Вероятно, он сам не знал. Рука дрожала, но не от страха, а от ярости и отчаяния.
Рембо смотрел на пистолет, и впервые за долгое время в его глазах мелькнуло что-то похожее на удивление, а может, даже на мимолетный страх. Но он не двинулся с места. Стоял у окна, как мишень, нарисованная судьбой.
– Я не позволю тебе уйти, Артур! – голос Верлена был искажен.
– Не глупи, Поль, – спокойно, даже с легким презрением ответил Рембо. – Опусти эту игрушку.
И в этот момент прозвучал выстрел. Резкий, нелепый звук, разорвавший духоту комнаты, тишину брюссельского полдня. Не громовой раскат, а скорее хлопок, от которого зазвенело в ушах. Пуля. Она не попала в сердце, не оборвала жизнь сразу. Она попала в запястье. В руку. В ту самую руку, которая писала такие стихи, которая держала перо, которая протягивалась за бутылкой или за объятием. Пуля должна была положить конец всему, но лишь «закрепила» их судьбу, «запечатала» их легенду кровью.
Рембо вскрикнул. Не от боли, а скорее от шока и негодования. Он схватился за раненую руку, кровь мгновенно расплывалась по рубашке. Верлен замер, пистолет выпал из его ослабевшей руки. Ужас. Чистый, неразбавленный ужас отразился на его лице. Что он наделал?
Рембо, несмотря на рану, не потерял присутствия духа. – Ты… ты стрелял в меня, Поль! – в его голосе звучало неверие, перемешанное с какой-то извращенной триумфальностью. Как будто он «знал», что все закончится именно так.
Дальше был хаос. Соседи, полиция, крики, кровь на полу. Больница. Допросы. Суд. Суд, где их жизнь была вывернута наизнанку для потехи публики, где их любовь была названа «развратными отношениями», а гениальность – лишь следствием порока. Рембо, давая показания, не стал защищать Верлена. Он сказал правду – или свою правду: «Он хотел меня убить». Это был последний, самый жестокий удар. Предательство? Или просто констатация факта от человека, который не знал жалости?
Тюрьма для Верлена. Одиночество. Раскаяние, переходящее в религиозное искательство. А для Рембо… «Одно лето в аду». Книга, написанная в лихорадке после разрыва, прощание с поэзией, с этим миром. А потом – Африка. Жажда денег, торговли, реальной, осязаемой жизни, как будто он хотел заглушить боль и память о сгоревшем лете в Брюсселе.
Они разошлись. Каждый по своему пути. Один в монашеское, или почти монашеское, раскаяние, другой в африканскую жару и торговлю оружием и рабами. Но после этого выстрела, после этого суда, после этой разлуки – они уже никогда не были «теми» Верленом и «тем» Рембо. Те сгорели вместе в том коротком, яростном, проклятом пламени, оставив после себя лишь пепел гениальности и эту историю. Эту чертову историю.
И вот сидим мы здесь… в полумраке… с дымом сигарет… и эта история все еще… ноет. Как старая рана. Как напоминание о том, что бывает, когда гений встречается с безумием, а любовь – с разрушением. И что иногда, чтобы создать что-то вечное, нужно сжечь дотла все остальное. Даже себя. И друг друга.
Поэт Печали и Эстет БлескаПредставьте себе это не как исторический очерк, но как мерцающий, тяжелый от времени и памяти фрагмент из сознания кого-то, кто, возможно, даже не был там, но чувствует эту встречу, как давний, но не заживающий шрам на ткани самого Лондона, или, может быть, на душе той эпохи, которая уже тогда, в том душном, пропитанном пивом и сожалениями пабе, несла в себе семена собственного распада.
Вот этот фрагмент, вырванный из потока сознания, как пробка из бутылки, что хранила в себе не вино, но годы и горечь:
«…он сидел там, Верлен, да, Поль Верлен, имя, которое само по себе было похоже на стон или на плевок, в зависимости от того, кто его произносил и в какой момент проклятого дня, сидел в том углу, куда свет даже в самый яркий полдень проникал лишь как бледное, немощное обещание, никогда не выполняемое, сидел среди запаха пролитого эля и вековой пыли и табака, который въелся даже в самый воздух, не просто витал, а стал частью его, как кости становятся частью плоти, и его лицо, да, его лицо – это не было лицо человека, это была карта всех дорог, по которым он прошел, всех канав, в которых он лежал, всех дверей, которые захлопнулись, всех поцелуев, которые жгли, а потом оставили лишь пепел на губах, лицо, изрезанное морщинами, которые были глубже, чем просто следы лет, это были следы ударов, следы падений, следы того, что жизнь может сделать с гением, когда гений не может или не хочет сделать что-то с жизнью, и руки его, да, руки, что писали слова, которые могли бы заставить камни заплакать или цветы расцвести посреди зимы, теперь держали стакан, обхватывая его так, будто это было единственное твердое, единственное настоящее в этом шатком, вечно ускользающем мире, и взгляд его, блуждающий, иногда цепляющийся за что-то невидимое в дыму, иногда пронзительный, как лезвие, но чаще всего просто отсутствующий, взгляд человека, который видел слишком много и слишком мало одновременно, который искал что-то, что, возможно, никогда не существовало или было потеряно так давно, что даже память о потере выцвела.
И в этот самый воздух, в эту сгустившуюся, тяжелую, как свинец атмосферу, вошел другой. Уайльд. Оскар Уайльд. Имя, звучащее как колокольчик в цирке или как удар хлыста на арене, имя, которое уже тогда, в свои двадцать с небольшим, несло в себе груз не столько достижений, сколько ожиданий, и не столько ожиданий, сколько скандалов, или, вернее, обещаний скандалов, обещаний того, что он будет скандалом, будет вызовом, будет живым, дышащим, смеющимся произведением искусства, или, по крайней мере, попытается им быть, со всей серьезностью, на которую способен человек, играющий роль. И он вошел, не просто вошел, а появился, как видение, как птица райская среди воробьев, как отполированный, сияющий артефакт из другого времени или другого мира, в своих бархатных бриджах, или что там он носил в тот день, в своем тщательно уложенном парике волос, или что там было на его голове, с цветком в петлице, который казался слишком ярким, слишком живым для этого места, для этого города, возможно, даже для этой планеты, и от него исходил запах, не запах эля или табака или пота, а запах чего-то дорогого, чего-то искусственного, чего-то, что было создано, чтобы быть красивым, чтобы отрицать все, что этот паб и этот человек в углу собой представляли.
Они встретились. Два полюса одного и того же болезненного, прекрасного, обреченного века. Один – живая руина, другой – сияющее здание, построенное на песке. Один – гений, чья жизнь была его проклятием, другой – человек, чья жизнь была его сценой, и он сам был своим лучшим, самым отточенным персонажем. И они говорили. О чем? О, конечно, о поэзии. О Бодлере, чья тень висела над ними обоими, тяжелая и благословенная. О Рембо, имя которого, произнесенное вслух, должно было прозвучать как удар ножа в Верлена, как эхо безумия и страсти, которое Уайльд, возможно, лишь поверхностно понимал, видя в нем лишь еще один экзотический цветок декаданса, не чувствуя его ядовитых корней, уходящих глубоко в плоть и душу. Они говорили о красоте, наверное. Уайльд – как о цели, как о божестве, как о единственном оправдании существования. Верлен – возможно, как о чем-то, что он когда-то знал, что-то, что ускользнуло, оставив лишь горькое послевкусие, что-то, что, возможно, и привело его в этот паб, к этому стакану, к этому одиночеству среди других одиночеств.
Их голоса, да, их голоса. Голос Уайльда – мелодичный, отшлифованный, полный остроумия, которое сверкало, как бриллианты на черном бархате, каждое слово тщательно выбрано, каждое предложение – законченная, самодостаточная единица смысла и звука, голос, созданный для салонов, для аплодисментов, для того, чтобы быть услышанным и повторенным. И голос Верлена – возможно, тихий, бормочущий, прерываемый кашлем, или, наоборот, внезапно громкий, пронзительный, когда какая-то мысль или воспоминание прорывалось сквозь туман, голос, который нес в себе хрипоту улиц, слезы тюрем, шепот любовников и крики ссор, голос, который не заботился о форме, но нес в себе вес самой правды, той грязной, неприглядной, но неоспоримой правды, которую Уайльд так искусно облекал в шелка и парчу парадоксов.
И они сидели так некоторое время, два мира, столкнувшиеся в одном пропахшем пивом пространстве, один – воплощение эстетизма, другой – живое доказательство того, во что может превратиться романтизм, когда он встречается с реальностью безжалостной и неумолимой. И никто не знает точно, что было сказано, какими именно словами они обменялись, какие прозрения, если они были, мелькнули в дыму, какие старые раны были случайно задеты или какие новые, невидимые, нанесены. Нет стенограммы, нет точного отчета, только легенда, только ощущение того момента, которое осталось висеть в воздухе, как запах, который нельзя выветрить, как тень, которую нельзя стереть. Момент, когда Красота, сияющая и немного пустая, встретилась с Болью, глубокой и полной невысказанных истин, и они кивнули друг другу через пропасть, разделяющую их, признавая, что оба они, каждый по-своему, служили одному и тому же жестокому, прекрасному, безразличному божеству Искусства. А потом момент прошел, как проходит любое мгновение в пабе, как уходит любой посетитель, оставляя за собой лишь пустой стакан и эхо голоса, и Верлен, наверное, заказал еще, а Уайльд, наверное, отправился дальше, сиять в другом месте, в другом салоне, оставляя за собой лишь легкий аромат чего-то слишком изысканного для этого мира…»
Томас Манн
Непрощенное МолчаниеПредставим, что это фрагмент из долгого, тягучего, как влажный южный зной, размышления, быть может, старого человека, сидящего на веранде под мерным скрипом кресла-качалки, человека, чья память – это не прямая дорога, а запутанный лабиринт, где прошлое не ушло, а лишь спряталось за следующей дверью, всегда готовое настигнуть.
…имя его, Томас Манн, само по себе звучало тяжело, как последний удар старинных часов в пустом доме, не просто имя, а метка на карте того проклятого века, века, когда все, что казалось прочным, рассыпалось в прах, когда слова, которые должны были быть маяками, превратились в погребальные колокола. Родился он в другом времени, в другом мире, мире бюргерского достатка и уверенности, мире, где искусство было изящной, пусть и меланхоличной, прихотью, не кровавой необходимостью. Он писал о распаде, да, о тонкой корке цивилизации над бездной, о болезни как форме познания, о смерти как конечной точке всех путей, но тогда, в «Будденброках» или даже в «Венеции», это была еще красивая смерть, элегантный распад, под звуки вагнеровских лейтмотивов, а не хрип и вонь газовых камер. Он видел трещины, но не мог знать, что из них хлынет.
А потом пришло «то». Не просто зло, а отрицание всего, на чем стоял мир, отрицание разума, отрицание человечности, вой и марш, сводящий с ума, поднимающий из земли что-то древнее и ужасное. И голос, его голос, голос, который привык говорить иронией и многослойными метафорами, вынужден был стать резким, вынужден был кричать, призывать к разуму тех, кто уже утонул в безумии. Он видел опасность раньше многих, чувствовал ее кожей, в самом воздухе, который становился все более плотным, все более удушливым. И вот он, великий мастер немецкого слова, человек, чьи корни уходили глубоко в эту, его землю, оказался на чужбине. Не потому, что захотел, нет, не как турист или искатель приключений. Его вырвали. Как старое дерево с корнями, полными родной земли, вырывают и бросают на чужую почву, где воздух другой, и свет падает иначе.
Он был в Швейцарии, кажется, когда пришла эта новость, новость, которая была не новостью, а лишь подтверждением неизбежного, как последний удар топора по уже надломленному стволу. И дети, Эрика и Клаус, эти нервные, талантливые, слишком рано повзрослевшие дети, которые уже давно кричали о надвигающейся катастрофе, они сказали ему: «Отец, не возвращайся.» И он не вернулся. Как мог он вернуться туда, где его книги жгли на площадях, где его имя стало синонимом предательства для тех, кто сам предал все? А потом и вовсе лишили его гражданства, бумажка, всего лишь бумажка, но она означала: ты больше не один из нас. Как будто можно бумажкой вырезать из человека землю, на которой он вырос, язык, которым он мыслит. Но они попытались. И он стал эмигрантом. Немецким писателем, который больше не мог жить в Германии.
Швейцария сначала, тихие озера, горы, равнодушные к человеческим страстям, а потом Америка, этот огромный, шумный, непонятный континент, Калифорния, где солнце светило слишком ярко, скрывая тени, которые он привез с собой. Там были другие, такие же, как он, изгнанники, голоса, оторванные от родной земли, пытающиеся говорить на языке, который теперь звучал иначе, с привкусом потери. Фейхтвангер, Брехт, другие… они собирались, говорили о доме, которого больше не было, или который стал чужим, или который был болен смертельной болезнью. Он стал голосом той Германии, которую пытались уничтожить, голосом разума в мире, сошедшем с ума, его радиообращения, летевшие через океан, были как укоры совести, как напоминание о том, что есть еще другая возможность, другой путь.
И когда наконец дым рассеялся, и война закончилась, и мир попытался вздохнуть, многие ждали. Ждали, что он вернется. Символ. Совесть. Что он придет и поможет собрать осколки. Но он не вернулся. Или почти не вернулся, лишь приезжал, как чужой, на короткое время. Почему? Потому что воздух там, на его земле, все еще был тяжелым. Тяжелым от невысказанного, от непережитого, от вины, которую слишком быстро пытались сбросить, как старую, неудобную одежду. Он видел, как они спешат отстроить дома, заводы, мосты, но не души. Не было покаяния, не было глубокого, мучительного осмысления. Было желание забыть. Забыть, кто маршировал, кто кричал «Хайль», кто молчал, когда других уводили. Земля была разделена, да, стенами и границами, но еще больше – невидимой стеной между теми, кто ушел, и теми, кто остался, между теми, кто несет рану изгнания, и теми, кто несет рану соучастия или бездействия. Он не хотел выбирать сторону в новой, холодной войне, раздирающей его родину. Его дом был теперь там, где были его книги, его мысли, его семья, рассеянная по миру. Он остался свидетелем, критиком извне, голосом, который напоминал, что прошлое не похоронено, оно просто ждет своего часа.
И его отношение ко всем, кто остался, кто молчал, кто сотрудничал… о, это было как старый, незаживающий нарыв. Он не прощал. Не прощал тех, кто находил оправдания, тех, кто говорил о «внутренней эмиграции», как будто можно спрятаться внутри себя, пока мир снаружи горит. Он видел в этом самообман, трусость, попытку сохранить чистоту, запачкав руки бездействием. «Внутренняя эмиграция», говорил он, это попытка усидеть на двух стульях, попытка сохранить свое место, пока другие рисковали всем или теряли все. Его радиообращения были полны не только гнева на режим, но и горького разочарования в собственном народе, в его слабости, в его готовности подчиниться злу. Он считал, что каждый, кто жил там, несет часть ответственности, даже тот, кто просто молчал. Молчание было согласием. Бездействие было соучастием. Это была его суровая, неумолимая правда.
А был еще Гессе. Герман Гессе. Другой великий, другой изгнанник, но другого рода. Он ушел раньше, в свою Швейцарию, задолго до прихода того, ушел не от политики, а от шума мира, от национализма, от войны, которая уже тогда казалась ему безумием. Он искал себя, искал душу в лабиринтах Востока, в психоанализе, в музыке сфер. Гессе был интроверт, мистик, художник, чье поле битвы было внутри человека. Манн же, даже когда писал о глубинах души, всегда был связан с внешним миром, с обществом, с историей. Он уважал Гессе, да, признавал его гений, особенно в поздних работах, в этой его «Игре в бисер», где мир был сведен к чистой мысли, к абстрактной гармонии, как будто в попытке уйти от хаоса реальности. Но он не мог принять этот путь для себя. Писатель, по Манну, не мог просто наблюдать за хаосом, он должен был говорить о нем, кричать о нем, пытаться понять его и осудить. Гессе ушел внутрь, Манн остался снаружи, обличая. Два одиноких пути, оба великие, оба мучительные, оба отмеченные печатью одного и того же времени. Но Манн не мог понять, как можно искать гармонию внутри, когда снаружи творился ад. Это была разница не в таланте, а в выборе, в моральном императиве.
И вот, его наследие. Тяжелое. Монументальное. Нелегкое для чтения, нет. Как подъем в гору, где воздух разрежен и каждый шаг дается с трудом. Но там, наверху, открывается вид. Вид на пропасть, на вершины, на извилистые тропы человеческой души и человеческой истории. Его книги – это не просто истории, это диагнозы. Диагноз больной Европы, больной Германии, больного человечества. «Волшебная гора», где мир перед катастрофой собрался в одном санатории, дышальном смертью и философией. «Доктор Фаустус», эта страшная, гениальная книга о сделке с дьяволом, которую заключила Германия ради своего особого пути, ради гениальности, ради власти, заплатив за это душой. Он писал долгими, извилистыми предложениями, как будто пытаясь вместить в них всю сложность, всю противоречивость, всю вину этого времени. Его ирония – это не смех, а горькая усмешка человека, который видел слишком много. Его лейтмотивы, повторяющиеся, изменяющиеся, как в симфонии, связывают воедино распад семьи, болезнь тела, безумие души, катастрофу истории. Он был мастером слова, да, но его мастерство было служением. Служением правде, служением памяти, служением предупреждению. Он не просто писал книги, он строил монумент из слов – монумент утраченному, монумент осуждению, монумент вечному напоминанию о том, что происходит, когда разум отступает и зло поднимает голову. Монумент, который стоит и по сей день, тяжелый, мрачный, но необходимый. Как напоминание. Как укор. Как вечный вопрос, обращенный к нам, живущим после.
Смерть в ВенецииВенеция, не та, что на глянцевых, выцветающих открытках, не та, которую рисуют в легких снах о каналах и серенадах, но та, что дышит под солнцем, как старый, больной зверь, чье дыхание – это запах соли, ила, и чего-то сладкого, приторного, чего-то, что напоминает одновременно увядающие цветы и давно забытую, гниющую плоть, – вот куда приехал Ашенбах. Густав фон Ашенбах. Имя, что само по себе было крепостью, стеной, возведенной из слов, из тщательно отмеренных, выверенных до последнего вздоха предложений, из всей той дисциплины, того порядка, что он насаждал в себе, в своей жизни, в своем искусстве, как садовник, выкорчевывающий сорняки дикого, необузданного бытия, оставляя лишь чистые, геометрически выверенные клумбы своего разума, своего таланта, своей славы.
Он был столпом. Монументом. Человек, который знал. Знал, как обуздать хаос, как придать форму бесформенному, как заставить жизнь служить искусству, а не наоборот, как это бывает с теми, кто слаб, кто поддается этому вязкому, липкому потоку чувств, страстей, всей этой грязной, непредсказуемой кутерьме, что люди называют жизнью. Он отрекся. Или думал, что отрекся. Построил свою Аполлонову цитадель высоко над Дионисийской бездной, над этой клокочущей, пьянящей ямой, откуда доносились крики, смех, плач, запахи вина и пота и чего-то еще, чего-то древнего и опасного.



